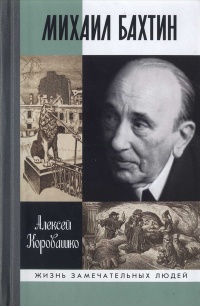Книга Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса - Михаил Бахтин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Клятвы были неофициальным элементом речи. Они даже прямо были под запретом. Борьба с ними велась с двух сторон: со стороны церкви и государства и со стороны кабинетных гуманистов. Эти последние видели в них ненужные паразитические элементы речи, только замутняющие ее чистоту, и считали их наследием варварского средневековья. Такой точки зрения придерживается и Понократ в приведенном нами отрывке. Государство и церковь усматривали в них кощунственное и профанирующее употребление священных имен, несовместимое с благочестием. Под влиянием церкви государственная власть неоднократно издавала ордонансы против клятв («jurons»). Они оглашались на площадях. Такие ордонансы издавали короли Карл VII, Людовик XI (от 12 мая 1478 г.) и, наконец, Франциск I (в марте 1525 г.). Эти осуждения и запреты только закрепили за клятвами их неофициальный характер, только обострили связанное с ними ощущение нарушения речевых норм; это, в свою очередь, усиливало специфическую окраску речи, усеянной клятвами, и делало эту речь более фамильярной и по-площадному вольной. Клятвы стали восприниматься как известное нарушение официальной системы мировоззрения, как известная степень речевого протеста против нее.
Запретный плод сладок. И сами короли, издававшие ордонансы, имели свои излюбленные клятвы, которые в популярном сознании закрепились за ними как своего рода постоянные неофициальные прозвища этих королей. Людовик XI клялся – «Пасха господня» («Pasque Dieu»), Карл VIII – «Добрый день господень» («le bonjour Dieu»), Людовик XII – «Черт меня побери» («le diable m’emport») и Франциск I – «Честное слово благородного человека» («foy de gentilhomm»). Современник Рабле Роже де Коллери написал на эту тему характерное стихотворение «Epitheton des quatre Roys»:
Здесь постоянные клятвы становятся характеристическими признаками и своего рода прозвищами индивидуальных людей. Но подобным же образом характеризовались и определенные социальные группы и профессии.
Если клятвы профанируют священное, то в приведенном нами стихотворении они это делают вдвойне: «пасха господня» умирает, «добрый день господень» (т. е. рождество) также умирает и сменяется «черт меня побери». Площадной и вольный характер клятв проявляется здесь в полной мере. Они создают атмосферу, в которой становится возможной эта свободная и веселая игра со священным.
Мы сказали, что каждая социальная группа и профессия имела свои характерные излюбленные клятвы. Рабле дает замечательное динамическое изображение площади своего времени с ее пестрым социальным составом при помощи одних клятв. Когда молодому Гаргантюа, приехавшему в Париж, надоело назойливое любопытство парижской толпы, он стал поливать эту толпу мочой. Самую толпу Рабле не изображает, но он приводит все те клятвы и проклятия, которыми разразилась эта толпа, и мы слышим ее социальный состав.
Вот это место:
«– Должно полагать, эти протобестии ждут, чтобы я уплатил им за въезд и за прием. Добро! С кем угодно готов держать пари, что я их сейчас попотчую вином, но только для смеха.
С этими словами он, посмеиваясь, отстегнул свой несравненный гульфик, извлек оттуда нечто и столь обильно оросил собравшихся, что двести шестьдесят тысяч четыреста восемнадцать человек утонули, не считая женщин и детей.
Лишь немногим благодаря проворству ног удалось спастись от наводнения; когда же они очутились в верхней части университетского квартала, то, обливаясь потом, откашливаясь, отплевываясь, отдуваясь, начали клясться и божиться, иные – в гневе, иные – со смехом:
– Клянусь язвами исподними, истинный рог, отсохни у меня что хочешь, клянусь раками, pro cab de bious, das dich Gots leyden shend pote de Christo, клянусь чревом святого Кене, ей-же-ей, клянусь святым Фиакром Брийским, святым Треньяном, свидетель мне – святой Тибо, клянусь господней пасхой, клянусь рождеством, пусть меня черт возьмет, клянусь святой Сосиской, святым Хродегангом, которого побили печеными яблоками, святым апостолом Препохабием, святым Удом, святой угодницей Милашкой, ну и окатил же он нас, ну и пари ж он придумал для смеха!
Так с тех пор и назвали этот город – Париж…» (кн. 1, гл. XVII).
Перед нами очень живой и динамический, громкий (слуховой) образ пестрой парижской толпы XVI века. Мы слышим ее социальный состав: мы слышим гасконца («pro cap die bious» – «головой господа»), итальянца («pote de Christo» – «головой Христа»), немецкого ландскнехта («das dich Gots leyden shend»), зеленщика и продавца овощей (святой Фиакр Брийский был патроном садоводов и огородников), сапожника (святой Тибо – патрон сапожников), пьяницу (saint Godergrain – это был патрон любителей выпить). И все остальные клятвы (всего их здесь двадцать одна) имеют какой-нибудь специфический оттенок, вызывают какую-нибудь дополнительную ассоциацию. Так, мы встречаем здесь расположенные в хронологическом порядке уже известные нам клятвы последних четырех французских королей, что подтверждает популярность этих своеобразных прозвищ. Возможно, что мы уже не улавливаем многих оттенков и аллюзий, которые современникам Рабле были вполне понятны.
Специфический характер этого громкого образа толпы создается именно тем, что он построен только из одних клятв, то есть построен весь вне норм официальной речи. Поэтому речевая реакция толпы органически сливается с древним площадным жестом Гаргантюа, обливающего эту толпу мочой. Жест его так же неофициален, как и речевая реакция толпы. Они раскрывают один и тот же неофициальный аспект мира.
И жест (обливание мочой) и слово (jurons) создают атмосферу для тех весьма вольных травестий имен святых и их функций, которые мы здесь встречаем. Так, одни из толпы призывают «святую Колбасу», имеющую здесь значение фалла, другие призывают «Saint Godegrain», что значит – Godet grand – то есть большой бокал; кроме того, «Grand Godet» было название популярного кабачка на Гревской площади (его упоминает Вийон в своем «Завещании») [117]. Другие призывают saint Foutin – пародийная травестия имени saint Photin. Другие призывают «saint Vit», имеющего здесь смысл фалла. Наконец, призывают и «святую Мамику», имя которой стало нарицательным названием любовницы. Таким образом, все призываемые здесь святые травестированы или в непристойном, или в пиршественном плане.
В этой карнавальной атмосфере становится понятной и аллюзия Рабле на евангельское чудо насыщения народа пятью хлебами. Рабле сообщает, что Гаргантюа потопил в своей моче 260 418 человек, «не считая женщин и детей». Эта библейская формула взята непосредственно из евангельского рассказа о чуде насыщения (формулу эту Рабле применяет довольно часто). Таким образом, весь эпизод с мочой и народной толпой дает травестирующую аллюзию на евангельское чудо насыщения собравшейся толпы народа пятью хлебами [118]. Мы увидим дальше, что это не единственная травестия евангельских чудес в романе Рабле.