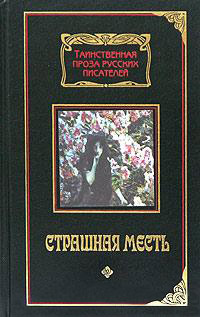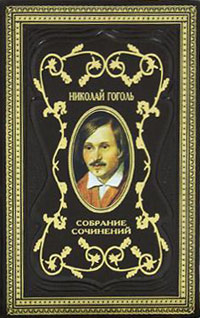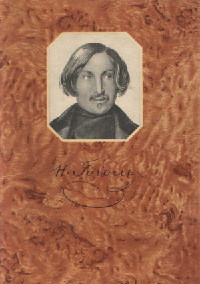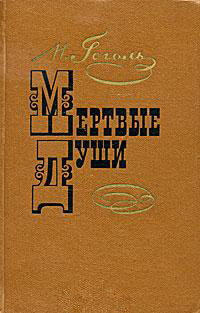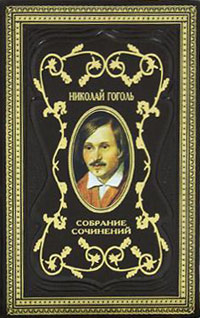Книга Повести. Том 3 - Николай Гоголь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Радуясь, что наконец удалось успокоить народ и спасти шляхтича, Остраница выехал из местечка и пришпорил коня сильнее, и услышал, что его нагоняет Пудько. Как-то тягостно ему было видеть возле себя другого. Множество скопившихся чувств нудило его к раздумью. Свежий, тихий весенний воздух и притом нежно одевающиеся деревья как-то расположили в такое состояние, когда всякий товарищ бывает скучен в глазах вечно упоительной природы. И потому Остраница выдумал предлог отослать вперед Пудька в хутор и ожидать его там, а сам, сказав, что ему еще нужно заехать к одному пану, поворотил с дороги.
Этим распоряжением Пудько, кажется, не был недоволен, или, может, только принял на себя такой вид, потому что чрез это нимало не изменял любимой привычке своей говорить. Вся разница, что вместо Остраницы он всё это пересказывал своему Гнедку… „О, это разумная голова! Ты еще не знаешь его, Гнедко! Он тогда еще, когда было поднялось всё наше рыцарство на ляхов, он славную им дал перепойку. Дали б и они ему перцу, когда бы не улизнул на Запорожье. А правда, не важно жид болтается на виселице? А пана напрасно было затянули веревкою за шею. Правда, у него недостает одной клепки в голове; ну, да что ж делать? Он от короля поставлен. Может, ты еще спросишь, за что ж жида повесили? ведь и он от короля поставлен? Гм!.. ведь ты дурак, Гнедко! Он зато враг Христов, нашего бога святого.“ Тут он ударил хлыстом своего скромного слушателя: убаюкиваемый его россказнями, развесил уши и начал ступать уже шагом. „Оно не так далеко и хутор, а всё лучше раньше поспеть. Уже давно пора, хочется разговеться святою пасхою. Говори, мол: мне не пасхи, мне овса подавай. Потерпи немножко: у пана славный овес, и пшеницы дам вволю, а сивухою попотчивают. Я давно хотел у тебя спросить, Гнедко, что лучше для тебя, пшеница или овес? Молчишь? Ну, и будешь же век молчать, потому что бог повелел только человеку, да еще одной маленькой пташке…“
При этом он опять хлеснул Гнедка, заметив, что он заслушался и стал выступать по-прежнему… Но, вместо того, чтобы слушать рассуждения наших путешественников на седле и под седлом, обратимся к Остранице, давно скакавшему по проселочной дороге.
Как только рыцарь потерял из виду своего сотоварища, тотчас остановил рысь коня своего и поехал шагом. Солнце показывало полдень. День был ясный, как душа младенца. Изредка два или три небольших облака, повиснув, еще более увеличивали собою яркость небесной лазури. Лучи солнечные были осязательно живительны; ветру не было, но щеки чувствовали какое-то тонкое влияние свежести. Птицы чиликали и перепархивали по недавно разрытым нивам, на которых стройно, как будто лес житных игол, восходил молодой посев. Дорога входила в рытвины и была с обеих сторон сжата крутыми глинистыми стенами. Без сомнения, очень давно была прорыта эта дорога в горе, потому что по обеим сторонам обрыва поросла орешником, на самой же горе подымались по обеим сторонам высокие, как стрела, осокори. Иногда перемеживала их лоза, вся в отпрысках, иногда дуб толстый, которому сто лет, и весь убранный павиликой, плющом, величаво расширял свою над ними, и казался еще выше от обросшего кустами подмостка. Местами дикая яблоня протягивалась искривленными своими кудрявыми ветвями на противуположную сторону и образовала над головою свод, и сыпала на голову путешественника серебророзовые цветы свои, между тем как из дерев часто выглядывал обрыв, весь в цветах и самых нежных первенцах весны. В другом месте деревья так тесно и часто перемешивались между собою, что образовали, несмотря на молодость листьев, совершенный мрак, на котором резко зеленели обхваченные лучами солнца молодые ветви. Здесь было изумительное разнообразие: листья осины трепетали под самым небом; клен простирал свои листья, похожие на зеленые лапки, узколиственный ясень рябил еще более, а терновник и дикий глод, оградивши их колючею стеною, скрывал пышные стволы и сучья, и только очень редко северная береза высовывала из часть своего ослепительного, как рука красавицы, ствола. Уже дорога становилась шире, и наконец открылась равнина, раздольная, ограниченная, как рамами, синеватыми вдали горами и лесами, сквозь которые искрами серебра блестела прерванная нить реки и под нею стлались хутора. Здесь путешественник наш остановился, встал с коня и, как будто в усталости или в желании собраться с мыслями, стал поваживать по лбу. Долго стоял он в таком положении, наконец, как бы решившись на что, сел на коня и, уже не останавливаясь более, поехал в ту сторону, где на косогоре синели сады и, по мере приближения, становились белее разбросанные хаты. Посреди хутора, над прудом, находилась, вся закрытая вишневыми и сливными деревьями, светлица. Очеретяная ее крыша, местами поросшая зеленью, на которой ярко отливалась желтая свежая заплата, с белою трубою, покрытою китайскою черною крышею, была очень хороша. В ту минуту солнце стало кидать лучи уже вечерние, и тогда нежный серебророзовый колер цветущих дерев становился пурпурным. Путешественник слез с коня и, держа его за повод, пошел пешком через плотину, стараясь итти как можно тише. Полощущиеся утки покрывали пруд; через плотину девочка лет семи гнала гусей.
„Дома пан?“ спросил путешественник.
„Дома“, отвечала девочка, разинув рот и став совершенно в машинальное положение.
„А пани?“ „И пани дома“. „А панночка?“ Это слово произнес путешественник как-то тише и с каким-то страхом.
„И панночка дома“.
„Умная девочка! Я дам тебе пряник. А как сделаешь то, что я скажу, дам и другой, еще и злотый“.
„Дай!“ говорила простодушно девочка, протягивая руку.
„Дам, только пойди наперед к панночке и скажи, чтоб она на минуту вышла; скажи, что одна баба старая дожидается ее. Слышишь? Ну, скажешь ли ты так?“ „Скажу“. „Как же ты скажешь ей?“ „Не знаю“. Рыцарь засмеялся и повторил ей снова те самые слова; и, наконец, уверившись, что она совершенно поняла, отпустил ее вперед, а сам, в ожидании, сел под вербою.
Не прошло несколько минут, как мелькнула между деревьев белая сорочка, и девушка лет осьмнадцати стала спускаться к гребле. Шелковая плахта и кашемировая запаска туго обхватывали стан ее, так что формы ее были как будто отлиты. Стройная роскошь совершенно нежных не была скрыта. Широкие рукава, шитые красным шелком и все в мережках, спускались с плеча, и обнаженное плечо, слегка зарумянившееся, выказывалось мило, как спеющее яблоко, тогда как на груди под сорочкою упруго трепетали молодые перси. Сходя на плотину, она подняла дотоле опущенную голову, и черные очи и брови мелькнули как молния. Это не была совершенно правильная голова, правильное лицо, совершенно приближавшееся к греческому: ничего в ней не было законно, прекрасно-правильно; ни одна черта лица, ничто не соответствовало с положенными правилами красоты. Но в этом своенравном, несколько смугловатом лице что-то было такое, что вдруг поражало. Всякий взгляд ее полонил сердце, душа занималась, и дыхание отрывисто становилось.
„Откудова ты, человек добрый?“ спросила она, увидев козака.
„А из Запорожья, панночка; зашел сюда по просьбе одного пана, коли милости вашей известно, — Остраницы“.
Девушка вспыхнула. „А ты видел его?“ „Видел. Слушай…“ „Нет, говори по правде! Еще раз: видел?“ „Видел“. „Забожись!“ „Ей-богу!“ „Ну, теперь я верю“, повторила она, немного успокоившись. „Где ж ты его видел? Что, он не позабыл меня?“ „Тебя позабыть, моя Ганночко, мое серденько, дорогой ты кристалл мой, голубочко моя! Разве хочется мне быть растоптану татарским конем?..“ Тут он схватил ее за руки и посадил подле себя. Удивление девушки так было велико, что она краснела и бледнела, не произнося ни одного слова. „Как ты сюда прилетел?“ говорила она шопотом: „Тебя поймают. Еще никто не позабыл про тебя. Ляхи еще не вышли из Украины“. „Не бойся, моя голубочка, я не один, не поймают. Со мною соберется кой-кто из наших. Слушай, Галю: любишь ли ты меня?“