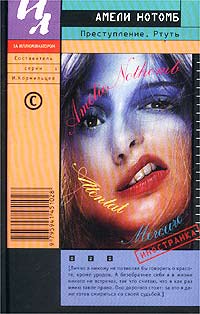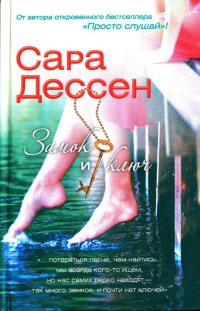Книга Богемная трилогия - Михаил Левитин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Мой брат не умеет молчать, — сказала немного захмелевшая Мария. — Но это семейное, это у нас в роду.
— Что с того, что он говорит во время работы? — возразил председатель артели. — У меня в артели одни глухонемые, но если бы вы знали — сколько они говорят!
— Он хочет сказать, что его сотрудники объясняются пальцами, — пояснил портной приезжим. — Ну, знаете, такая азбука.
— Я знаю, — кивнул Хорст.
— Мой брат, — упрямо продолжала Мария, — не просто любит говорить, он говорит лишнее. У моего брата столько лишнего!
— Что с того, что он не контролирует себя? — спросила библиотекарь Вера Петровна. — Вот мы вечно контролируем себя, и чего мы достигли?
— Но о нас нельзя сказать, что мы непорядочные люди, — возразил внук адмирала. — О нас это нельзя сказать.
— Что правда, то правда, — согласились с ним.
— Вы очень хорошие соседи, — сказала Мария. — Вообще у нас очень хороший город, правда, Хорст?
И запела: «Як тебе не любити, Киеве мiй».
Подпевали ей все, хор получился разнобойный и жиденький, но такой знающий, что петь, такой репертуарный, заслушаешься. А может быть, просто не пели давно?
— Скоро приедет Георгий, — сказал председатель артели.
— Да, еще полгода, — сказал портной. — Я отмечаю.
— А может быть, скостят, — сказал кладбищенский мастер Яков. — Такое бывает.
— Конечно, скостят, — сказала Вера Петровна. Времена сейчас другие, и не такое прощается.
«Приедет Георгий, — подумала Мария. — И снова начнем ссориться из-за стирального порошка, бельевой веревки, родительского наследства, мы начнем кричать друг на друга и даже подеремся. Мы будем шуметь, шуметь так, что огорчим весь район. О Господи, скорее бы!»
Вечер кончился быстрее, чем хотелось бы гостям, слишком быстро было допито вино, съеден пирог.
36
Всю дорогу Трофимов думал о телеграмме. Для чего вызывали родители? Почему телеграммой? Неужели отец?
Он не знал, как будет жить, если с отцом что-нибудь случится. Он не помнил, чтобы когда-нибудь, разве что в самом детстве, намекнул отцу на такое свое отношение к нему. Семья была сурова, говорили мало, трудились в саду, дети обращались к родителям на «вы», не до нежностей.
Но нежность была, это Трофимов понимал, какая-то стыдливая непроявленная нежность, но так как другой Трофимов не знал, он и привык эту непроявленность, это щемящее и подавляемое волей, это несовершенное считать нежностью. И тут телеграмма. Конечно же, горе, да, да, конечно же, горе.
Он вез им деньги, много денег, таможня не станет проверять офицера, и он вез им все, что заработал сам и что заработала Лиза. Он не думал, как станет жить дальше, главное — телеграмма.
Деньгами отца не вернешь, это он понимал, но как-то компенсировать ту невыраженную нежность очень хотелось. Отец бы расширил пасеку, купил чехлы для деревьев. Но почему ни в одном письме о нездоровье, неужели скоропостижно? А вдруг мать?
Мать — это тоже было больно, мать Трофимов любил, как полагается любить матерей детям, но он всегда помнил, что мать была женщиной, а значит, должна была безотказно работать, работать и когда-нибудь умереть.
Собственно, она уже давно умерла, о ее существовании надо было напоминать, мать могли похоронить без Трофимова. Нет, отец, конечно же, отец.
Когда он с чемоданчиком в руках выгрузился на Белорусском вокзале, у вагона стояла высокая женщина в черном платье. Пожалуй, она была среднего роста, но что-то значительное в лице повелело Трофимову считать ее высокой.
— Вы Трофимов? — спросила она.
— А в чем дело? — спросил Трофимов, и у него заболело сердце.
— Пойдемте, — сказала женщина и повела по перрону. Она провела Трофимова к зданию вокзала и там, найдя свободное место в углу, они сели на скамью.
— Кто вы? — начал нервничать Трофимов. — Что, с моим отцом?
— Ваш отец здоров, — сказала женщина. — И мать, и сестры. У вас хорошая семья.
— Я не понимаю — при чем тут вы и при чем тут, эта телеграмма?
— Это я дала вам ее, — сказала женщина.
— Вы? Зачем?
— Отпустите Лизу, — сказала женщина.
И тут он догадался, собственно, догадался он почти сразу, он мог дать честное слово, что, встретив эту женщину, он сразу предположил что-то такое, не укладывающееся в сознании, что могло исходить только от Лизы и быть связанным только с ней.
— Что с моими? — крикнул Трофимов. — У меня телеграмма. Вот, вот…
И он стал рвать пуговицы кителя дрожащими руками, пытаясь достать бланк.
— Я виделась с вашей мамой, она жива.
— А отец?
— Он тоже здоров.
— Вы… Вы говорили с ними?
— Да. Я сказала, что вы хороший офицер и очень хороший сын, что вы все время думаете о других людях, я сказала им, что у вас доброе сердце. И еще я сказала, что у вас есть друзья.
— Зачем вы это сделали?
— Отпустите девочку, — повторила она. — Ее любят, пусть будет счастлива, отпустите ее.
— Как вы не понимаете, я тоже люблю ее!
— Нет, не любите. Когда любят — оставляют в покое. Лучше бы вам рассказал об этом мой брат, но его нет сейчас, приходится мне.
— Что же мне делать? — спросил Трофимов после долгого молчания.
— Дай ей свободу, офицер! — неожиданно резко сказала женщина.
— Я не о том. Что же мне делать сейчас, ехать назад?
— Мне кажется, вы должны навестить своих, — сказала женщина. — Вам теперь нечего стыдиться.
— Здесь такая история, — сказал Трофимов. — Вы понимаете, понимаете…
Он чувствовал, что хочет рассказать ей все, его распирали слова, но все это были какие-то мертворожденные слова, осколки слов, они громоздились, как льдинки, друг на друга, когда вырывается из-под гнета льда поток, и теперь душили Трофимова, не давая ни сообразить, ни понять, что же все-таки происходит с ним сейчас, почему хочется броситься в ноги этой чужой старой женщине и жаловаться, жаловаться, почему ему хочется сознаться, что он, кадровый офицер, ненавидит свою службу, ненавидит Германию, ненавидит тех, кто всему на свете предпочитает службу, что ему хочется в отцовский сад, в отцовский сад, но он спросил только: «Что передать Лизе?»
— Привет от Георгия и Марии, — сказала женщина.
Гордая, прямая, она уходила от Трофимова, обходя тюки, чемоданы, тележки носильщиков, всю эту снующую по белому свету братию.
Он хотел предложить ей помощь или попросить ее о помощи, Трофимов не знал — чего он хотел, знал только, что ее надо остановить, что теперь она не появится в его жизни долго, возможно, никогда, но идти за ней не было сил.