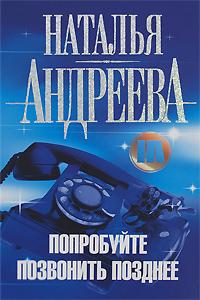Книга Афганская бессонница - Сергей Васильевич Костин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Святой отец — не знаю, как правильно вас называть… Прежде чем я достаточно приду в себя, чтобы поблагодарить вас, вы должны ответить на вопрос, который мучает меня уже неделю. Как называется это удивительное благовонное дерево, которое вы просто сжигаете в печках?
Имам повел ноздрями.
— Именно, — подтвердил я.
Мухаммад Джума запустил персты в бороду и застыл в задумчивости.
— Арча. Мы говорим «арча». Нет, не знаю! И никогда не знал, наверное. Мой французский язык не настолько хорош.
— Ваш французский — восхитителен, — заверил его я. — Не важно, что вы не помните, как называется это дерево. Я никогда в жизни не говорил по-французски с большим удовольствием. Поверьте, это чистая правда!
Мухаммад Джума просиял.
— Считайте, что вы меня уже поблагодарили.
По дороге в мечеть почтенный имам не переставал болтать. Ему доставляло видимое удовольствие и общение с иностранцем, и сам факт разговора на языке, который он полагал окончательно забытым. Он сообщил мне, что в любом случае собирался сегодня же поговорить обо мне с главным талибом, но приход Хан-аги за пистолетом заставил его отложить все остальные дела.
— Оружие — это очень опасно! — просвещал меня мой новый учитель, и глаза его, искаженно большие за толстыми линзами очков, сверкали так же, как когда он говорил о силе, которая толкает человека делать зло. — Оружие опасно не для того, на кого оно направлено, а для того, кто его держит. Оружие всегда стреляет назад.
— Вы имеете в виду закон кармы?
— Нет, я имею в виду буквально. Имам даже остановился. — Вы держите пистолет и думаете, что пуля полетит сюда. — Он показал вперед. — Она, может, и полетит. Но, как только вы достали оружие, где-то оружие наставляется и на вас. Вы выстрелили — выстрелят и в вас! Оружие очень опасно!
— И что вы сделали с моим пистолетом? Я надеюсь, вы не обезопасили его окончательно?
Имам довольно собрал в кисть свою бороду, как делают мусульмане в конце намаза.
— Я зарыл его в корзине с фасолью. Будет неправильно, если в ваших вещах найдут оружие.
— Резонно! Ну а что же такое вы сказали главному талибу, что он меня отпустил? Что если он бросил меня в тюрьму, то где-то уже открылась дверь камеры для него?
Мухаммад Джума снова встал как вкопанный — теперь уже чтобы посмеяться. Смех у него был высокий, звонкий и заливистый, как у ребенка.
— Нет, я сказал ему, что вы очень простужены и если проведете ночь в камере, то умрете. А если вы умрете, то здесь даже некому совершить над вами обряд!
Я понял, какие такие дела имаму пришлось отложить, чтобы пойти меня выручать. Талуканцы должны были до заката похоронить своих мертвых.
— Вы простите меня, святой отец, но мне трудно поверить, что во время войны такой довод может возыметь силу.
Имам хитро улыбнулся:
— Я сказал ему, что если мой гость, христианин, умрет без… Как вы это называете?
Слово «соборование» по-французски мне тоже сразу в голову не пришло. Но я вспомнил другое:
— Без последнего причастия.
— Без последнего причастия, я не пущу его в свою мечеть. Ни его, ни его солдат!
Мы прошли несколько шагов молча.
— А они не могут вас убрать, — я не уточнил, как убрать, — и поставить своего муллу?
— Могут, они все могут! Но зачем? Мы же все мусульмане.
Мы поравнялись с базой Масуда, в которой сейчас, судя по суматохе, разместился штаб талибов. Недалеко от въезда стоял джип. Несколько офицеров сгрудилось вокруг капота, на котором была расстелена карта.
— Вон еще один русский, — вдруг сказал Мухаммад Джума. — Только, похоже, он мусульманин.
Я присмотрелся к стоящим. Их было четверо — все смуглые, бородатые, все уверенные в себе. Один, в фуражке, был скорее похож на индуса, наверное, тоже пакистанец. Двое носили чалму и выглядели как и все басмачи вокруг. Но четвертый, с непокрытой головой, был светловолосым, борода у него была русая и довольно короткая, да и цвет кожи был скорее похож на загар.
Мы с имамом уже прошли мимо.
— А почему вы решили, что он русский? — спросил я.
— Я видел его здесь час назад, когда приходил требовать, чтобы вас отпустили. У него свой переводчик, он там тоже сейчас стоял. Я — вы, наверное, заметили — человек очень любопытный. Я спросил, на какой язык он переводит, и тот сказал, на русский.
Неужели? Нет, такое совпадение было бы слишком невероятным! Эсквайр показывал мне в Москве фотографию Таирова. Тот, хотя и с татарской фамилией, был совершенно не похож на представителя азиатской расы. Волосы светлые, кожа белая, глаза круглые, голубые, скулы нормальные — он вполне сходил за русского. Но у этого человека была борода, которая скрывает индивидуальные черты и унифицирует лица. Да и мог ли генерал Таиров разгуливать здесь, за тысячу километров от Кандагара — без охраны, в военной форме, даже с переводчиком?
Я обернулся. Русобородый смотрел мне вслед.
6
Я не лег в постель в своем теплом сухом подвале. Меня усадили за стол в доме муллы, накормили пловом — он оказался вегетарианским, только рис и овощи, — и вот теперь мы уже час пили чай и беседовали. Собственно, поскольку разговор шел по-французски, беседовали только мы с Мухаммадом Джумой. Мулла сидел спокойно, без малейшего смущения или возмущения нашей невежливостью. Он вообще был какой-то незаметный — я до сих пор не знал его имени и не стремился узнать.
Домашний арест несомненно является одним из вершинных достижений цивилизации. Потому что, лишая вас возможности действовать, он освобождает вас и от этой обязанности. Вы пребываете в тепле и довольстве, и от вас никто не вправе потребовать исполнения долга. Так хорошо и уютно мне не было с детства, когда болезнь укладывала меня в постель с любимыми книгами, а домашние задания врач разрешал не раньше чем дней через пять. Хотя, возможно, и сейчас во мне говорила болезнь.
Новое, взрослое, в давно забытом старом, детском: я никогда не думал, что способен получать такое удовольствие от богословских бесед. Мухаммад Джума вцепился в меня, как миссионер в папуаса, который принес ему в подарок кокосовый орех. Я никогда не предполагал, что наш общий отец — и наши общие святые: Авраам-Ибрагим, Сара-Зара, Иосиф-Юсеф — могли оставить двум разным коленам рода человеческого столь разные предписания. Хотя чему удивляться? Ведь даже сын нашего общего бога-творца оставил нам заветы, диаметрально противоположные требованиям отца. Один говорил: «Зуб за зуб и око за око!», а другой призывал после левой щеки подставлять правую. Хорошо, что по слабости своей мало кто из христиан пытается жить по Писанию. А то представьте себе такого человека! Зачем далеко ходить? Вот Лева с его эпилептоидной вязкостью. Он открывает Устав сухопутных сил, или как там он называется, и читает в статье 3, что командир обязан нанести максимальный урон живой силе противника, а в статье 4 — что командир обязан сохранить максимум жизней солдат, как своих собственных, так и противника. Тут ведь можно рехнуться или застрелиться — если бы все религии не запрещали самоубийства, как страшного греха!