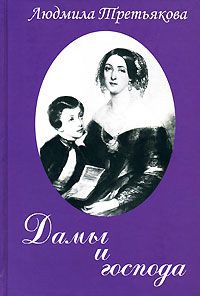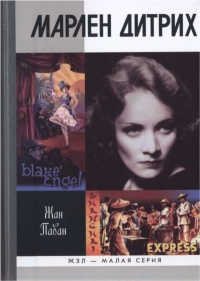Книга Незакрытых дел – нет - Андраш Форгач
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Даже страшно, насколько гладко.
В первую такую поездку, когда она уже получила официальное задание и ее обучили всяким принятым в секретных службах хитростям, мы отправились вместе – Брурия и я. До Афин на поезде, оттуда из Пирея пароходом в Яффу, с остановкой на Кипре. Помню, какое это было сюрреалистичное переживание – в двадцать три года, выглянув туманным холодным утром в сад за домом наших угрюмых афинских хозяев, увидеть апельсин, растущий на дереве. Тогда я осознал, что апельсины растут на деревьях точно так же, как яблоки или груши.
Ужасно читать первое мамино донесение. За поездку заплатила семья, но от этого чтение расписок в получении за подписью Форгач Марцелне не становится менее удручающим – жутко, отчаянно удручающим. В этой поездке я часто недоумевал, почему она так напряжена. Папы нет, может вздохнуть свободно. Ну конечно: ей же нужно было беспрерывно все фиксировать, фиксировать и фиксировать. Приведенный ниже список скучноват, но тем самым с этой частью мы более или менее разделаемся, поскольку последующие будут один в один; в любом случае Брурии кучу всего задали на дом:
На основании вышеизложенного рекомендую, согласно Приказу за номером 0024/1966, предоставить г-же ПАПАИ несколько более конкретные и широкие разъяснения по следующим пунктам:
– Текущая внутриполитическая ситуация в Израиле.
– Положение переселенцев, причины эмиграции из Израиля.
– Внутренняя экономическая напряженность, ситуация с уровнем жизни.
– Подготовка к XXIX Всемирному сионистскому конгрессу.
– Отклик Израиля на проходивший в Брюсселе конгресс «в защиту советских евреев».
Относительно израильской агентурно-оперативной ситуации:
– Проверки, осуществляемые при въезде и выезде (паспорт, таможенный досмотр, личный досмотр и т. д.).
– Обязательства, связанные с пропиской, заполнение бланков, формуляров, анкет, на какие вопросы нужно было ответить, в чем состояла процедура.
– Признаки надзора (слежка либо иные проявления контроля – может быть, ограничительные меры, с особым упором на провокации).
– Возможности поездок по Израилю, ограничения на перемещение или территориальные ограничения.
Все же это было непростое задание для страстного, бессистемного ума, для медсестры: ей ведь нужно было совместить профессиональный политический анализ с непредвзятостью опирающегося на точные данные социолога и змеиной мудростью разведчика. Донесение же являет собой какой-то вопиющий лепет. Для моей поездки мама состряпала им такой предлог: мол, я должен привести в порядок литературное наследие деда. Я оказался бы для этого дела совершенно непригодным в силу полного незнания иврита. Да я бы и сейчас на это не сгодился. Позже я, правда, немного освоил иврит своими силами: вначале учился по абсурдному гэдээровскому учебнику, когда работал на болтовом заводе в Холоне, промышленном пригороде Тель-Авива, – с арабами, кстати; в обеденный перерыв, присев на лестнице в заводском дворе, я всегда открывал свою книжечку, потому что иначе не мог обменяться ни с кем ни единым словом, рабочие с Западного берега по-английски не говорили – от силы знали какие-то слова. Смех это был, а не учеба, – как если бы сегодня кто-нибудь вздумал учить венгерский по глупой хрестоматии 1958 года издания. Учебник я купил еще в 1972 году в Восточном Берлине, когда оказался там на гастролях с группой «Орфео» в качестве горе-барабанщика, но это другая история. В написанных на иврите текстах речь шла о рабочих и работницах, о производстве и образцово-показательной семье, какой ее замыслил для восточных немцев Вальтер Ульбрихт; соответственно, я отчасти усвоил несуществующий социалистический иврит и мог потом этими словами без конца развлекать израильскую молодежь. Но я-то учил иврит не ради чего-нибудь, а лишь для того, чтобы проникнуть в тайны загадочного маминого родного языка (который в Израиле на улице звучал, кстати, отнюдь не так таинственно – скорее даже заурядно и грубо), – и да, у меня было такое чувство, будто с каждым словом, которое я вызубривал и значение которого внезапно осознавал в самый неожиданный момент, я опять, как ребенок, постигаю физические очертания мира; вода – это майм? Как это так: майм – вода?! Я как будто вглядывался в хрустальный шар, в котором мне открывалось сразу и прошлое, и будущее, и при этом проникал, словно рентгеновский луч, в тело моей матери. Я говорил: нечто – сладкое (мотек) или соленое (малуах), влажное (ратув) или сухое (явеш); я говорил: сейчас зима (хореф) или лето (каиц), кому-то грустно (оцув) или весело (ализ), – и посредством новых слов как будто узнавал об этих вещах нечто радикально новое, например что во влаге всегда ощущается какая-то странная сухость, что и в самой большой сухости гудит влажный, насыщенный звук «ш»: из всех этих необыкновенных слов, противоречивших всем законам природы, я реконструировал зрение, слух и обоняние моей матери. Заново выстраивал ее детство. Понимал ее перевернутый мир. Ставил ее с головы на ноги. Я составлял свою мать из слов иврита, как из кусочков пазла. Мама – женщина-мозаика. Эти слова-ощущения все до одного пропитаны телесным бытием и содержанием, каждое из них я слышал из уст матери, и с тех пор это так и есть. Язык работал как магнитофон, как скрытая видеокамера. Я шпионил за своей матерью.
Дома родители часто говорили между собой на иврите, чтобы мы ничего не поняли, и моя голова, как чулан, еще долго была набита бессчетными словами, значения которых я не знал, словами, которые, быть может, я никогда и не пойму. И когда то или иное из хранившихся в моем мозгу выражений озарялось, как по волшебству, смыслом – а по большей части это были фразы, которые мои родители бросали друг другу в гневе, поскольку иврит служил для них прежде всего языком брани, а не любви, языком войны, выпадов и пререканий, а не согласия и гармонии, – мне казалось, что я постиг нечто вселенское, понял нечто о каждом из когда-либо существовавших языков. В общем, в силу ритуального повторения перебранок значение слов не было для нас такой уж тайной, значение обильно летавших у нас по дому запальчивых, резких, прилипчивых, разящих, как стрелы или град камней, слов (Зе ло беседер! Эйн ли кесеф! Нет, не в порядке! У меня денег нет!). Но когда я был совсем маленький, колыбельные, которыми меня усыпляли, звучали тоже на иврите – о, эти слова, с их густыми медовыми мелодиями, тающими во рту, как восточные сладости, а с ними и аппетитные запахи, которые источали регулярные, приходившие издалека израильские посылки: финики, халва, а еще запах шоколада и «Мальборо», покупавшегося в аэропорту блоками; если гости приезжали оттуда – а приезжали часто, – они всегда привозили что-нибудь экзотическое; и когда в этом первом нашем совместном путешествии я наконец впервые фланировал по тем самым местам, словно среди декораций, искусно возведенных на киностудии: по бульвару Ротшильда, по Сдерот Бен Гурион, по Дизенгоф, в Яффе или по пляжу, – я так же вбирал в себя местные запахи и день ото дня, с каждым новым словом все укреплялся в иллюзии, что я лучше понимаю свою мать. Как будто эти странные слова, которые произносятся задом наперед, и предложения, которые надо выкрикивать (мой старший брат метко обозвал этот сумбурный, непостижимый для нас язык кашей – в честь овсяной каши, porridge, которую со времен нашего лондонского житья Брурия неизменно готовила нам каждое утро), как будто все эти обыкновенные, но в то же время таинственные языковые фигуры заключали в себе мамину ДНК. Через некоторое время я научился читать еврейские буквы и без огласовки, по уличным табличкам, которые я, как первоклашка, упорно разбирал по слогам за имевшиеся в моем распоряжении несколько секунд, когда ездил на автобусе по городу. Но это еще не значит, что я овладел ивритом. Это был лишь предлог для моей поездки, мама просто-напросто взяла меня с собой, потому что хотела поехать именно со мной, а не с моим старшим братом, хотя после нашей старшей сестры была его очередь; со мной мама могла чувствовать себя в безопасности (теперь я даже знаю, чтó она скрывала).