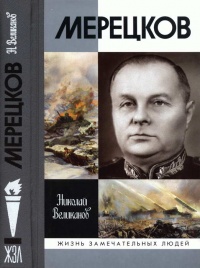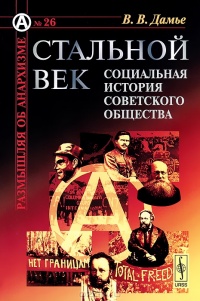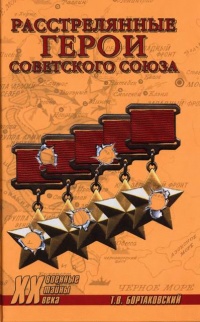Книга Дядя Джо. Роман с Бродским - Вадим Месяц
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
С настороженностью мы узнали, что вечер в Хобокене будет вести ортодоксальный Юрий Милославский.
— Его я нейтрализую, — сказал Вайль. — И не таких успокаивал.
Вечер прошел хорошо, хотя я пригласил много местных, которые оттеняли столичный идеал. Сам выступил нормально. Прочитал стихи «после Лорки» про Нью-Йорк. «Я люблю тебя, словно начался ремонт в не сожженных грозою дощатых университетах, где котенок гонял мандарин по глухим коридорам, а вахтерши вязали оранжевые свитера». «Я люблю тебя. Я вспомнил такую любовь, от которой плывут в табакерке сквозь ртутную осень, замерзают в больничной скорлупке, затерянной в море магеллановой нефти, качающей мрамор колес». Красиво. Провинциально. Трогательно. Одна университетская девочка из Бостона перевела эти вирши и написала, что мне знакомо чувство «дуэнде». Если для Бродского Аполлон и Одиссей давно вышли из моды, то метафора еще с горем пополам отстаивала свои жалкие рубежи. Остальные зубоскалили. Нынешняя жена Вайля, Эллочка, подошла ко мне и сказала:
— Сожалею, что не читала ранее. Будем читать. — И залилась смехом.
Обычно мои разговоры с ней состояли из двух фраз по телефону.
— Петю сейчас позову. Петя выпивает, но и закусывает.
Переводчица Белла Мизрахи взялась продавать книжки знаменитостей, приговаривая: «Получил „Букер“, отказался от „Антибукера“». Для меня это звучало неслыханной абракадаброй. Я попросил Гандлевского подарить мне его книжку. Он сообщил, что я могу приобрести ее у его агента Беллы Мизрахи. Парень после трепанации черепа соображал плохо. Прилетел в Нью-Йорк, получил гонорар, продал книгу организатору. И все бы ничего — хреновую книгу.
Вечером я жаловался Дяде Джо и зачитывал фрагменты из произведений Гандлевского. Александра уже уехала, но Кибиров, который должен был занять ее место, так ко мне на Варик-стрит и не перебрался.
Это походило на рефлексии Пастернака. «Я сам себе далек и дорог, как музыка издалека». «Далек и дорог». «Как музыка». «Сам себе». Юный нарцисс сидел на чердаке и слушал далекую, любимую сердцем музыку. И это было давно, как в эстрадной песне Юрия Антонова: «…сырым и нежным летом, когда звенел велосипед». И потом вдруг переход на третье лицо — о «мальчике, которым он был по всем приметам», но в силу какой-то кокетливой изворотливости «может быть, и не был». Ускользающий мальчик. Дуалистический мальчик. Кровавый мальчик. Загадочные, женственные стихи. Я не такая. Я другая. Я жила, а может, и померла.
Бродский хохотал до слез.
— Вы же не читаете тех, кого приглашаете.
— Дык уплочено. На эти деньги можно было купить бутылку «Абсолюта».
— Зря вы так. Вот послушайте. «Лег я навзничь. Больше не мог уснуть. / Много все-таки жизни досталось мне. / „Темирбаев, платформы на пятый путь“, — / Прокатилось и замерло в тишине».
— Да, неплохо. Но книжку мог бы и подарить.
На пожарной лестнице у меня сушилась рыба. Мелочь, пойманная в Гудзоне, но в основном — магазинная мелкая тилапия, которую я солил для эксперимента. Время начиналось дождливое, я положил рыбу в целлофановый пакет и взял с собой. Досушу где-нибудь по дороге. В Лордвилль, где обретался Кузьминский, на границе Нью-Йорка и Пенсильвании, я поехал по дуге, решив заехать к одному нелитературному другу на озеро Джордж, выяснить с жильем на лето. Там сырые хвойные леса, холмистая местность, огромные булыжники повсюду. По озеру плавает пароходик времен Марка Твена и постоянно палит из пушки, надеясь, что труп Тома Сойера все-таки всплывет.
Приятель работал в пункте проката спортивного инвентаря. Вечером мы совершили символическое возлияние, утром я взял у него гидрокостюм, спиннинг и отправился к ближайшему ручью на рыбалку. Погода была хорошая, солнечная. В это осеннее время рыбы никто не ловит. Мальчишки, приехавшие в скаутский лагерь на выходные, хихикали надо мной из кустов и кидались шишками. Называли меня тупым русским. Я простоял на скользких камнях около часа, потом пошел к хижине приятеля, во дворе которого досушивал рыбу, нацепил ее на кукан, намочил в озере и несколько раз важно прошел по лагерю, стряхивая воду со своего улова. Я демонстрировал тайну славянской души. Она устроена, как видите, довольно просто. Несколько мужиков, встреченных по дороге, похвалили меня за сноровку. Я сказал, что дело в блесне. Сейчас надо брать такую, с желтым перышком. Они скупили у моего друга все блесны с перьями и, когда я уезжал к Кузьминскому, выстроились в ручье и на мелководье озера в виде рыболовной артели. Я пожелал им удачи и покатил в сторону Пенсильвании.
Кузьминского мне долго сватал Милославский в качестве уникального коллекционера живописи, которую стоит выставить.
— Вы уверены, что эти картины хотят видеть нас с вами? — спрашивал я.
Милославский злился. Чтобы выставлять это добро, нужно было покупать нешуточную страховку, да и за выставку мужики хотели получить денег. Бюджет мне этого не позволял. Я пригласил Кузьминского выступить в Стивенс, назвав его легендой советского андеграунда. Он приехал в пестром халате, с большой крашеной бородой, в окружении лолит и питеров пэнов. Распоряжалась всем его супруга, которую он нежно звал Мышью. Настоящего ее имени я так и не узнал. Кузьминский изображал из себя анархиста махновского толка, увиденного когда-то в советском кино. Читал не очень понятные стихи, гладил по голове лолит и пел песню «Эх, яблочко», подыгрывая себе на гармони. Студентов на мероприятие я собрал много, но они вскоре разошлись, приняв происходящее за русскую свадьбу.
Местечко с помпезным названием Лордвилль представляло собой несколько домов на мощеной улице, ведущей к реке. Я спросил у прохожей, где живет мистер Кузьминский.
— Русский джентльмен? С бородой? — переспросила она, и я возгордился тем, что достопримечательность Брайтона назвали джентльменом.
В более тучные времена Кузьминский работал в Техасе, где собирал знаменитую антологию «У Голубой лагуны». Туда должны были войти многочисленные таланты, которых отвергла советская власть.
Многотомник, скорее всего, где-то существовал, но я сомневался, что когда-нибудь его увижу. Библиографическая редкость. Монументальный мартышкин труд. Он демонстрировал то, что у советской власти тоже была губа не дура. Цензурой она поэтов так или иначе дисциплинировала. Кузьминский предпочитал непричесанную поэзию.
Я припарковал машину около зеленого военного джипа, стоящего на вечном приколе у двери с русской надписью «Баня». Машина была завалена стеклотарой от французского бренди «Наполеон»: никогда не встречал в Штатах в продаже такой дряни. Бутылки тоже казались артефактом из безвременно почившего СССР.