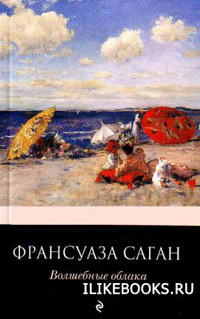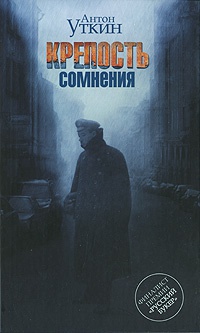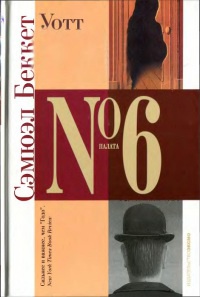Книга Ключ к полям - Ульяна Гамаюн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Я вставала рано, натягивала купальник, шорты и на цыпочках пробиралась по узкому коридору к двери, стараясь незамеченной выскользнуть на улицу. Но не тут-то было: как бы рано я ни проснулась, у дверей меня поджидал вездесущий Бип с сигаретой в зубах и корзиной наготове. Он с видом завзятого фокусника ставил ее на пол, и начинались «фокусы». Из чудо-тормозка извлекались по одному, как кролики за уши, его обитатели, кланялись воображаемой публике и послушно возвращались на место. Каждый кролик сопровождался комментариями факира: «яблочко райское, наливное», «виноград «Дамские пальчики» – пальчики оближешь», «рулет с маком и секретом», ««Волны» – книга – закачаешься», «вода минеральная, без газу», «плед клетчатый, с фестонами». Он попытался было снаряжать со мной Мими – дуэнью безмолвную и строгую, но та жутко боялась моря и чуть от меня не сбежала.
Бип, конечно, угадал, что значит для меня солнце. Временами мне казалось, что он читает мои мысли, видит каждый новый их виток так же ясно, как застывшую в янтаре жужелицу, и неприятный холодок пробегал тогда от моих крылышек к лапкам. «Смотри, не расплескай», – хмыкал он, глядя, как я мечтательно щурюсь на солнце. Всучив мне корзину, он складывал руки на груди и, качая головой, говорил: «Ты неисправимая язычница». Затем, бросив довольный взгляд на янтарь, с которым я не расставалась, добавлял: «И фетишистка». Я смеялась, он с колотушками выставлял меня за дверь, а через минуту уже кричал из открытого окна, не щадя спящих соседей: «Привет Тутанхамону!»
Но Тутанхамон не показывался. Бархатный сезон не коснулся этого приморского поселка, словно беспокойная толпа туристов, докатившись до Аю-Дага, через горы перевалить так и не решилась. На пляже, кроме ветра и чаек, не было ни души. Ревнивый медведь привычно тянул воду в зеленовато-рыжей дали, подрагивали желтые фестоны пледа, страницы, присыпанные песком, тихо вели свою беседу, чайки подбирались так близко, что при желании могли читать у меня из-за плеча, теплая галька дружелюбно пощелкивала, окунаясь в соленую пену прибоя.
Был конец августа – тихий привал на обочине года, ради которого только и терпишь изнурительную и, в сущности, никому не нужную ходьбу по кругу. Осень еще не наступила, но ее тонкие черты уже просматривались за остывающим облаком лета. И ветер, и каждый поворот туч, и похожие на сгустки смолы ягоды винограда, и бахчевое сахарное пиршество ос на базарах, и каждый солнечный луч были авансом чего-то невероятного, невероятно наступающего. Каждый шаг звенел, каждая мысль вспыхивала и дрожала, как роса на паутине.
Летел песок. Сплошь заштрихованное малиновыми и золотисто-зелеными искрами море играло на солнце, волны обрушивались болтовней на молчаливый берег. Хотелось взять ручку и писать – любую чепуху, все равно что, хотелось сравнивать кого-нибудь с луной в облаках, или, скажем, с солнцем, хотелось взять крючок, моток распростецких ниток и сплести что-нибудь необыкновенно простое, брякнуть что-нибудь глупо-сентиментальное. Вот так бы всегда: просто быть, просто отбрасывать тень. Я была так беззастенчиво счастлива, что, будь у меня крылья, как у моей янтарной подружки, они бы мерцали от удовольствия.
Временами, очень редко, сам фокусник принимал участие в «явлении лица и вазы с фруктами на берегу моря». В матросской бескозырке, своей любимой красной рубашке и желтых штанах, яркий и порывистый, как флаг на мачте, он всегда появлялся неожиданно и уже издали начинал выкрикивать веселую околесицу:
– Чего не знал Тутанхамон, когда пришел на поле он?
– Тутанхамон?
– Он не знал, что делал слон!
Сбросив одежду, Бип с разбегу врезался в волны, крякал, отфыркивался и распугивал чаек. Плавал и нырял он мастерски, но как-то неуклюже, «как жаба», – смеялся он («как очень вертлявая жаба» – уточнял Тим). В серебристо-зеленых гривах волн мелькали то голова, то гладкая дельфинья спина; он кричал, улюлюкал, вскинув вверх обе руки, медленно уходя под воду, «измерял глубину» и долго, играя на нервах публики (медведь, Жужа, чайки), не выныривал. Лежа на спине, раскинув руки в стороны, отдавшись во власть волн, Бип казался обломком затонувшего корабля – маленький, безвольный обрубок в морских пучинах. Он, как и я, любил плавать в одиночестве.
Да, одиночество. Море – идеальное место для тонких ценителей этого блюда. Только там, качаясь на волнах, между небом и небом, по-настоящему чувствуешь его солоновато-горький привкус. Точно так же, как существуют люди, выдуманные другими людьми, или, скажем, люди, которые кому-то снятся, так есть и люди, выдуманные морем. Они то бродят по дну, то беззаботно плещутся на поверхности и нигде надолго не задерживаются; тягучее чувство тоски вместе с ветром выпроваживает их из любого порта, гонит прочь от людей, и они уходят в открытое море – печальные, не знающие покоя суденышки. Бип и я – мы выдуманы морем.
Накупавшись, Бип блаженно вытягивался на полотенце. Капли моря на его оливковом теле, как маленькие блестящие озера, с шипением мелели под колким солнцем. Я читала, или смотрела на море, или притворялась спящей. Чайки, как канатоходцы, балансировали на кромке прибоя, подозрительно косясь на две неподвижные, накаленные солнцем фигуры; осмелев, подбирались поближе. Подпустив их к самому полотенцу, Бип вскакивал и, подражая их голосам и движениям, несся за птицами, пока те, обиженно хлопая крыльями, не взлетали. Часто он, набрав гальки (голыши-малыши, говорил он), выкладывал ее по контурам моего тела. Потом он закуривал, и мы говорили. Странные это были беседы. Слова мерцали, как мои крылья и капли моря на его ресницах, фразы, переливаясь, парили над нашими головами вместе с сигаретным дымом, выводя в жарком воздухе причудливые монограммы. Не помню, о чем мы говорили. Случайный прохожий, очутись он поблизости, ничего бы в этой тарабарщине не разобрал. Вполне возможно, он бы даже решил, что «эти двое» глупо его разыгрывают, беззвучно, как рыбы, открывая рты. Нет ничего бессмысленнее разговоров у моря.
Бип казался беззаботно и безоглядно счастливым. По странной причуде – моря ли, светотени? – его карие глаза то светлели до прозрачной желтизны, то, густея, уходили в плотный сумрак; временами казалось, что радужка, словно парус на ветру, вздымается и опадает. Эти глаза (в каждом по солнцу) были живыми настолько, что вблизи воспринимались как абсолютно самостоятельные существа; «Бип» и «глаза Бипа», хоть и появлялись одновременно, но существовали отдельно, вроде Джона Сильвера (или Флобера) со своим попугаем. Ни древности, ни мудрости в этих глазах не было, но в тенистых аллеях, в солнечной ряби садов, что жили и дышали внутри них, проступал абрис человека, разгадавшего пусть и одну, но самую важную загадку. Встречаясь взглядами, вы видели в его глазах свое собственное отражение с райскими кущами за спиной, будто он, набрав вас в пипетку, капнул себе на радужки. Мохнатый бородач, древесный дух, Пан, хитрый фавненок – вот кем он был.
Бип много плавал, удил рыбу, собирал со мной ракушки и гальку, а его трость – «крючок для ботинок» – все чаще скучала в темном прикроватном углу. Загорелый, то оливковый, то янтарный, издали он походил на задорного мальчишку лет десяти. А так как мне, по его словам, и в худшие времена можно было дать не больше четырнадцати, то мы составляли замечательный дуэт: худая девочка в огромной шляпе и бородатый мальчик с сигаретой в зубах.