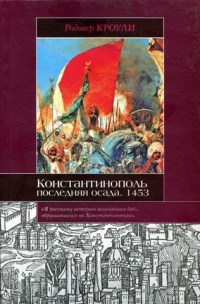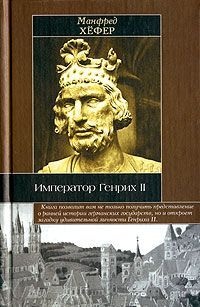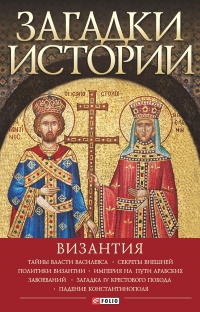Книга Максим Грек - Нина Синицына
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Именно эти предварительные заседания (и, может быть, первое соборное заседание) имел в виду владыка Досифей, начиная допрос Максима и говоря о Соборах апреля—мая, под которыми подразумеваются именно события 1531 года, а не «удвоенные» Соборы 1525 года23. Неточная расстановка знаков препинания, членение текста породили историографическую путаницу. Допрос Досифея начинается с сообщения, что митрополит поручил ему «вспрашивати Максима» о двух группах «хул». Можно предложить следующее членение текста (исходя из дважды повторенного дополнения о «хулах»): «вспрашивати Максима о хулах прежних Соборов (что было взыскание и Соборы на Максима Грека и на Савву у великого князя в палате, та же потом Соборы многие были у митрополита в палате его, лета 7033–го), на того же Максима о тех же хулах и о иных, которые прибыли и обнаружились месяца апреля и месяца майя, а сам митрополит ту то же был на Соборе со архиепископами, епископами и со всем Священным Собором». Бесспорно, речь во второй части фразы идет уже о тех Соборах апреля—мая, которые происходили лишь в митрополичьих палатах в 1531 году.
Почему суд исходил из презумпции виновности, почему ответ заранее предполагался отрицательным? С достоверностью ответить трудно. Может быть, отчасти был прав Берсень Беклемишев, когда говорил: «Ты здесь увидел наша добрая и лихая»24. Но лишь отчасти. Обвинения, которые были ему предъявлены, касались весьма острых вопросов, однако их тяжесть значительно превосходила доказанность.
Обвинительная речь митрополита начинается с повторения обвинения 1525 года в изменнических сношениях с Турцией, причем оно обращено также к греку Савве, осужденному в 1525 году. Но чем обвинение располагало в реальности? Упомянуты грамоты: «И вы с Саввою… посылали грамоты к пашам турского [царя], поднимая его» на Василия III и его державу. Но при рассмотрении вопроса, на допросах и очных ставках «свидетели», сообщившие о «затвореных грамотах»25, явно запутались. Сначала Арсений Сербии и келейник Афанасий Грек сообщили, что будто бы некий старец Федор, отправлявшийся в Царьград, говорил Арсению, что Савва (обвинявшийся вместе с Максимом) будто бы послал с какими‑то купцами («гостями») к султану «затвореные грамоты». При этом содержание «грамот» Федор Арсению не сообщил («не смею говорити»). Но дальше келейник Афанасий рассказывает по–другому: грамоты писали уже вместе Максим и Савва, но не к султану, а «к паше кафинскому» (турецкому коменданту Кафы, нынешней Феодосии), и «послали ту грамоту с дьяконом Федором», «и я, — сообщает келейник, — у него ту грамоту видел». Но келейник не читал грамоту, ее содержание (компрометирующую часть содержания) он узнал от какого‑то старца Окатея. Все это было столь запутано и малоправдоподобно, что дальнейшее разбирательство прекратилось. Окатея разыскивать и допрашивать не стали. Максим лишь заметил: «Душа, брате, твоя подимет». Он часто давал такой ответ.
Единственной реальностью, которая могла послужить поводом для обвинений в изменнических сношениях с Турцией, была имевшаяся у Максима Грека грамота — перевод послания турецкого султана Сулеймана I Кануни, называемого в Европе Великолепным, к венецианскому дожу Антонию Грима- ни от 28 января 1522 года. В ней сообщалось о завоевании
Турцией острова Родос, прежде принадлежавшего католическому ордену иоаннитов26. А. И. Плигузов, опубликовавший грамоту, полагал, что «здесь находим основные подробности, которые в устной передаче могли вырасти в устрашающие подробности» показаний Максимова келейника Афанасия: султан, переписка с неизвестным «венецийским князем», войско, море, корабли. Мотивы совпадают, и их вполне достаточно для того, чтобы плести нити устных известий, «слухи и толки», «пересказ грамоты» и т. д. Перевод мог быть сделан самим Максимом Греком, как предполагал Б. М. Клосс, или каким- то образом получен от турецкого посла Искандера Саки (Скиндера), как считает А. И. Плигузов. Как эта грамота соотносилась с тем, что Окатей, с одной стороны, и дьякон Федор — с другой, рассказывали то ли Арсению, то ли Афанасию, сказать, конечно, невозможно.
Другие связанные с этой темой обвинения тоже имели в своей основе лишь разговоры, показания свидетелей об услышанном и их вольные интерпретации. Обвинение утверждало: «Да вы же говорили, что великий князь воюет с Казанью, да будет ему неудача ("сором"), потому что турский ему не смолчит». Но мы знаем подлинную позицию Максима Грека именно в вопросе о Казани из послания (может быть, неотправленного) Василию III, где он призывал великого князя к активной внешней политике в этом направлении. Кому‑то из собеседников он мог говорить о том, что русский правитель встретит отпор от турского. Что же в этом уголовно наказуемого?
В обвинительной речи повторяется и обвинение 1525 года о том, что святогорец называл великого князя «гонителем и мучителем нечестивым». Но ответ Максима, по–видимому, именно на это обвинение в следственном деле, как мы помним, зачеркнут, осталось лишь само обвинение Федора Жареного. Кстати, такая же особенность характерна и для «Судных списков»: обвинения изложены полно, подробно, в деталях и нюансах, а ответы Максима сведены к минимуму, в большинстве случаев к двум–трем строкам. Так, обвинительная речь митрополита, занимающая почти шесть страниц в источнике, в рукописном сборнике, заканчивается двумя строчками ответа обвиняемого, который говорит, что «хулы» на Бога, Богородицу и православную веру «не говаривал, и не писывал, и не веливал писати». Что касается других лаконичных ответов обвиняемого, то мы располагаем таким убедительным способом их верификации, как собственные сочинения, которые будут написаны в 1530—1540–е годы специально с целью показать несправедливость выдвинутых против него обвинений по всем пунктам.
7 Н. Синицына
В обвинительной речи вспоминается и ситуация 1521 года во время «крымского смерча», когда великий князь покинул Москву (по Герберштейну, бежал и спрятался в стогу сена), и это снова увязано с турецкой темой. Якобы Максим говорил: «Князь великий Василий выдал землю крымскому царю, а сам, изробев, побежал. И коли он от крымского бежал, а от турского как не бежати?» Разговоры на столь острые темы всегда имеют ту особенность или опасность, что при их пересказе–передаче изменение мелкой детали, нюанса может придать им другой смысл, обернуться против говорящего. Максим Грек действительно мог говорить о той реальной опасности, которая таилась в военной мощи Турции, известной и России, и Европе. В другой части соборного разбирательства он объяснит, что говорил это «береженья для», чтобы князь великий «берегся» (остерегался), то есть вел осторожную и обдуманную политику27.
Максим и Савва упрекаются в том, что они знали о намерении турецкого посла Искандера «поднимати» турского царя на державу великого князя, а Максим, зная это, не сообщил великому князю и его боярам. В конце обвинительной речи повторено уже применительно к одному Максиму: «Посылал грамоты к турскому салтану и пашам его, поднимая его и призывая на разорение православной веры, и на святые церквы, и на христолюбивого царя нашего, и на все православное христианство, и на всю землю Русскую». Но могло ли быть так, что святогорский монах–грек мог желать победы завоевателя и угнетателя своего народа, турецкого султана, над православным царем?