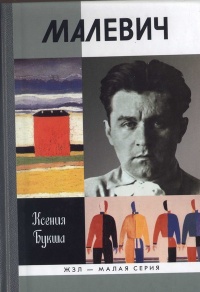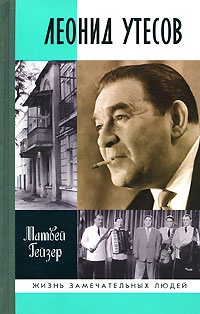Книга Щепкин - Виталий Ивашнев
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Более же всего Гоголя и Щепкина сближала общность взглядов на литературу и искусство, их роль в обществе, в просвещении и нравственном воспитании народа. «Забава забавой, — писал Щепкин, — но развивалось бы искусство, которое так полезно для народа. Во все века искусство было впереди массы, а потому, добросовестно занявшись оным, нечувствительно и масса подвинется вперед». «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, — как бы вторит ему Гоголь, — если принять в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою… может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом».
Оба художника, понимая столь высокую миссию театра, остро осознавали необходимость обновления театральных форм, языка драматургии, средств выразительности. Они считали, что назрело время для новой эстетики театра, когда он не только развлекает или отображает действительность, но видит свою тесную связь со всеми общественными процессами, помогает нести в общество передовые идеи, участвовать в улучшении «нравственного состояния народа».
У Гоголя и Щепкина не было расхождений даже в понимании технологии театрального творчества. Как и Щепкин, Гоголь предостерегал, например, актеров от стремления к быстрому результату, от соблазна заменить более сложную работу по выявлению психологии поведения героев, мотивировки их поступков актерскими эффектами, демонстрацией страстей. Во время репетиций «Развязки «Ревизора» он предостерегал актеров, чтобы они «сразу же не оттеняли своей роли и клали бы красок и колорита», так как «краски положить не трудно; дать цвет роли можно и потом, для этого довольно встретиться с первым чудаком и уметь передразнить его. Но почувствовать существо дела, для которого призвано действующее лицо, трудно».
Ко всем талантам Гоголя Михаил Семенович в равной степени присоединял и талант режиссера, он чутко прислушивался ко всем его рекомендациям, с усердием вчитывался в авторские ремарки в пьесах. Зная, как драматург умел прочитать свою пьесу, с необыкновенной точностью расставить все смысловые акценты, он потому так настойчиво добивался от него приезда в Москву, когда в Малом готовилась первая постановка «Ревизора».
Щепкина восхищали и поражали гоголевские ремарки. Это ли не режиссерские, тщательно разработанные экспликации порою целых сцен, чему лучшим свидетельством может служить знакомая всем «немая сцена», венчающая комедию «Ревизор».
Отношения Щепкина и Гоголя носили совершенно особенный характер, они не укладывались только в рамки дружбы или творческого содружества. Щепкин буквально боготворил своего друга, тянулся к нему всей душой. Николай Васильевич отвечал ему той же сердечностью и любовью. Обычно замкнутый, малообщительный, даже угрюмоватый в кругу незнакомых людей, писатель оживлялся, становился раскованным и остроумным рядом со Щепкиным. Он скучал по Михаилу Семеновичу, если они долго не виделись, ждал от него всякой весточки, обижался почти по-детски, когда их переписка затягивалась односторонним молчанием, и не мог удержаться от укоряющих приписок в письмах к общим знакомым, как это было в послании С. Т. Аксакову: «Скажите, почему ни слова не кажет, хоть в вашем письме, Михаил Семенович? Я не требую, чтобы он писал ко мне, но пусть в то время, как вы будете писать, прибавит от себя хоть, по крайней мере, следующее: что, вот, я, Михаил Семенович Щепкин, нахожусь в комнате Сергея Тимофеевича. В чем свидетельствую за приложением моей собственной руки. Больше я ничего от него не требую. Он должен понять это, или он меня не любит».
Щепкин обладал не только удивительной способностью притягивать к себе, но и замечательным даром соединять тех, кому «давно следовало быть знакомыми». Именно ему Гоголь больше всего обязан знакомству со многими литераторами, деятелями искусства. А прежде всего — встречей с Тургеневым. Тогда еще сравнительно молодой автор «Записок охотника», «Муму», пьес «Месяц в деревне», «Нахлебник» сам попросил Щепкина представить его именитому писателю и драматургу. Михаил Семенович готов был немедленно отправиться к Гоголю, но щепетильный Иван Сергеевич посчитал неловким без предупреждения нанести ему визит. «Ох, когда вы, господа, доживете до того времени, что перестанете обращать внимание на мелочи!» — посетовал Щепкин, но отложил встречу до следующего дня. Вначале провел «разведку», посетив Гоголя в одиночестве. «Знаете ли, Николай Васильевич, — обратился он несколько издалека к хозяину дома, — с вами желает познакомиться один русский писатель, но я не знаю, желательно ли это будет вам?» — «Кто же это такой?» — спросил Николай Васильевич. «Да человек теперь у нас довольно известный и, вероятно, вы слыхали о нем: это Иван Сергеевич Тургенев». Гоголь в то время «держал себя особняком и был очень неподатлив на новые знакомства», но, узнав, о ком идет речь, оживился и выразил заинтересованное желание увидеть своего молодого коллегу. Так передал со слов самого Щепкина предысторию этого знакомства переводчик Н. В. Соколов.
Встреча состоялась на другой день в назначенный час. Увидев гостей, Николай Васильевич заметно переменился, бледность лица пробил румянец, в движениях появилась какая-то суетливость. На слова Тургенева, что прочитанные им в Париже на французском языке произведения Гоголя «произвели большое впечатление», Николай Васильевич ответил комплиментом. Позже Иван Сергеевич запишет: «…Щепкин заранее объявил мне, что Гоголь не словоохотлив; на деле вышло иначе. Гоголь говорил много, с оживлением, размеренно отталкивая и отчеканивая каждое слово, — что не только не казалось неестественным, но, напротив, придавало его речи какую-то приятную вескость и впечатлительность. Я скоро почувствовал, что между миросозерцанием Гоголя и моим — лежала бездна. Не одно и то же мы ненавидели, не одно любили; но в ту минуту — в моих глазах все это не имело важности. Великий поэт, великий художник был передо мною, и я глядел на него, слушал его с благоговением, даже когда не соглашался с ним».
Произошла эта встреча всего за четыре месяца до того трагического дня, когда Тургенев возьмет в руки перо, чтобы с чувством невосполнимой утраты написать: «Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова? — Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить… Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, называть великим…»
А пока, прощаясь, как свидетельствовал Щепкин, Николай Васильевич, пожимая руку Тургенева, тихо промолвил: «Нам давно следовало быть знакомыми», — словно предчувствовал, что времени на это знакомство осталось слишком мало.
Всего лишь один случай представился им свидеться. Это произошло опять у Гоголя на чтении им «Ревизора». Он пригласил к себе актеров, занятых в пьесе, чтобы самому прочитать ее и помочь актерам в понимании образов, в том, как видит их сам автор. Прослышав об этом, собрались и писатели — отец и сын Аксаковы, Шевырев, Берг и Тургенев. Не все актеры пожаловали на читку, что заметно огорчило писателя, но вот он произнес первые реплики, весь преобразился, забыв об окружении, «словно и дела нет — есть ли тут слушатели и что они думают».
Ивану Сергеевичу доводилось присутствовать при блистательных чтениях Диккенсом своих романов, которые он великолепно театрализовал, разыгрывая их в лицах. Гоголь восхитил его и поразил не меньше, но уже совсем иной манерой чтения, лишенной даже налета театральности, внешних эффектов — простотой и сдержанностью тона, «наивной искренностью». «Эффект выходил необыкновенный, — писал он, — особенно в комических, юмористических местах; не было возможности не смеяться — хорошим, здоровым смехом; а виновник всей этой потехи продолжал, не смущаясь общей веселостью и как бы внутренне дивясь ей, все более и более погружаясь в самое дело — и лишь изредка, на губах и около глаз, чуть заметно трепетала лукавая усмешка мастера». Хлестаков в авторском исполнении, свидетельствовал Тургенев, был более естественным и правдоподобным, нежели в исполнении актеров. Он «увлечен и странностью своего положения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет — и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга — это не простая ложь, не простое хвастовство».