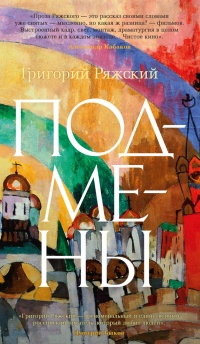Книга Муж, жена и сатана - Григорий Ряжский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Жаль, переписать уже поздно, — огорченно произнес Лёва, — а то, наверное, вся история эта сложилась бы иначе, никто бы не поссорился ни с кем, а вы бы, Николай Василич, тоже не написали в конце по то, что «скучно жить на этом свете, господа…»
— Ну написал бы по другому поводу, неважно, да, Николай Васильевич? — этим своим вопросом Ада решила застопорить отрыв мужа от первой нереальности, с тем чтобы он окончательно не перебрался во вторую, гораздо более удаленную по сравнению с первой и не настолько актуальную сейчас. — Мы, кажется, остановились с вами в тот момент, когда вы обитали в коммуналке, сделанной из вашего особняка советскими властями, верно?
Поверхность планшета начала покрываться мелкой рябью.
«Совершенно справедливо замечено, Аданька, именно так. Однако в середине, если память не изменяет мне, 1964 года здание это передано было постоянному представительству Киргизской республики при Совете тогдашних коммунистических министров. Не могу сказать, что последующие двадцать два года обитанья моего при них были плодотворными с точки зрения пристрастья моего к изученью людских трагедий, а равно и комедий. В людях тех, в киргизах, населявших поместье, в их словах и поступках мало было вещей, способных возбудить мое любопытство. Отличались они замкнутостью характера, неизменно скучным, молчаливым и чаще неоправданным послушаньем начальству своему, низкопоклонством, угодничеством и даже, сказал бы, лизоблюдством. Сейчас бы о таком, в широко применяемой ныне и противной для меня фразеологии, вполне могли бы сказать — «Ревизор» отдыхает». А только не так это, господа, не столь похоже и близко моим временам. Хлестаков мой, будучи исконно русаком, мог, залив в себя вина, сделаться верховодцем, распушить хвост, выпуская наружу дурное поочередно с привлекательным, смешное с печальным, обманное с искренним. Всякий встречный для него определяем самим мигом встречи, от друга сердечного до неприязненного человека, какого характеру русскому следует сторониться. Бесшабашная беспечность, развеселая удаль, непостоянство в голове и теле, как и героическое вместе с тем, и наплевательское, и талантливое вперемешку с бездарным и не полезным сердцу и душе — все это несовместное отчего-то ладным образом уживается в русской душе, отдельно смастеренной, составленной из неведомого матерьяла, обдуваемой другими ветрами, стремящейся к самовыраженью часто бездумному, ни на что не похожему, оттого и неповторимому… Именно в силу сказанного и не втянулся я в бытие киргизских человеков, не сроднилась искренняя тяга моя к постижению людей с тем, что наблюдал я более двух десятков лет. Да, присутствовал драматизм порою, и трагедии случались, не скрою, да только скучно, скучно, господа… Тупое рабство — дурная основа для драматургии — сие не тот человеческий конфликт, наполненный страстями, слезами и отчаяньем жизни в коммуналке, как вы, княгиня, назвали это позорнейшее соединение людей в принудительное стадное единство. И если б не покой и тишина, заполнявшая дом Толстых после стольких лет ужасающего гама и вечного переполоха, и принесшая мне отдохновенье в эти годы, то легкой рукой означил бы я годы те пропащими для души моей, беспамятно вычеркнутыми даже из неприкаянного обретания моего на грешной земле.
Веселее стало после того, как к Толстым вселилась редакция журнала «Радио и телевидение». Тут постепенно все стало возвращаться на круги своя. Подонки соседствовали с подвижниками, правдоискатели безуспешно противились подлецам, дамы с длинными пальцами, короткими стрижками, как ныне у Хакамады, в крупностекольных очечках и шелковых шарфиках мучительно скрывали собственные чувства, изводя себя чаяньями на взаимность с безнадежно отдаленными от жизни их небожительскими персонами, о которых они ж и писали.
Правду сказать, проводил я там лишь дневные часы, самые мне притягательные, однако ближе к темноте, утомившись разнообразием впечатлений, возвращался я к своим киргизам, в левое крыло особняка, чтобы уже там, в абсолютном покое услаждать душу свою обдумываньем накопленного за день. Виделось мне тогда уже, представляясь все отчетливей и ясней, куда устремляется моя Россия через этот ненавистный человеческому естеству коммунизм. С другой стороны, из киргизской части особняка, виделось и другое — то, где никогда Россия моя не окажется, как бы ни поворотила ее история, обращая лицом к первобытному строю и мракобесью, столь же для судьбы ее невозможному. И то, и другое, друзья мои, равно мерзостно, как мне казалось, однако второе все ж первого гаже. Феодальное крепостничество и первобытное рабство — самое чудовищное из человеческих зол, кроме всего прочего опирающихся к тому же на фанатичность исламских религий. Это и есть то, что несет всем людям большую опасность: вам, вашим детям, внукам и потомкам.
Отвлекся… Далее идем, однако.
А вскоре зданье наше по решению Исполкома Моссовета было передано Городской библиотеке № 2, и деятельность ее началась в 1971 году — такое невозможно запамятовать, поскольку уже через два года с небольшим при библиотеке этой открылись две музейные комнаты с литературно-мемориальной экспозицией, посвященной жизни моей и моему — прошу заранее извинить за нескромность — творчеству, отданным во благо Российской культуры и процветанья. По крайней мере, именно так написано крупными буквами при входе, на стене.
Туда и перебрался я, к себе уже, как говорится, ближе к исконным пенатам. А по истеченье следующих пяти лет библиотеке этой присвоили мое имя…»
— Так я не понял, Николай Василич… — прервал его Лёва, — это в каком же году получается?
— В 79-м, — быстро просчитала в уме Аделина. — Мне тогда десять лет как раз исполнилось, в пионеры приняли, кажется. В пионерки.
Лёва хмыкнул:
— А-а, 79-й? Это я уж свой институт землеустройства окончил, в армии год отслужил и успел внутренним эмигрантом заделаться. Помню, с Мишкой Шварцманом на паях тогда первую доску пристроили, семнашку, немцу одному, ковчежную, музейного класса, праздник, по левкасу, двухрядная, 29 клейм, сплошь фишки, не деланная. Я тогда оружием не занимался еще, только входил в это дело.
Ада толкнула его в бок:
— Лёва, никому не интересна история твоего человеческого падения, абсолютно никому. Не отрывай Николая Васильевича от дела. Что ты вообще себе позволяешь?
— А что такого? — уже окончательно по-свойски удивился Гуглицкий. — Просто маленькая переменка, и вообще, я ничего ни от кого не скрываю. Я тут среди вас, кстати говоря, самый старший. Вы в курсе, Николай Василич, у нас ведь с вами три года разницы, причем в мою пользу, если посчитать. Но только надо отбросить виртуалку — виртуалка не в зачет!
Экран заработал, выдавая привычный наклонный почерк, как и было положено:
«Давно знаю об этом, Лёвушка, с первого же дня. Ценю непомерно и уваженье испытываю огромное к вашему житейскому багажу — именно на него рассчитываю в деле моем, как сию минуту выразилась Аделиночка. К этому же и веду — недолго уж осталось, потерпите меня еще самую малость».
— Пожалуйста, не влезай больше со своими комментариями, я тебя очень прошу. — Ада с укоризной посмотрела на мужа, и тот, подчиняясь, обреченно кивнул в ответ.