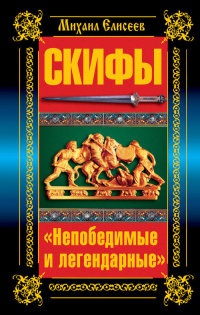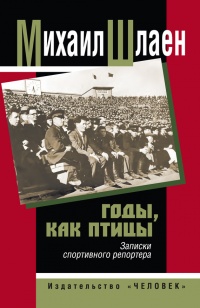Книга Ненависть - Иван Шухов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Зря вы волнуетесь, дорогие друзья! Зря! Ни того, ни другого хутора переселять мы не будем. Вековой целины в этих степях хватит зерносовхозу и без вашей земли. Да и не только нашему — не одному десятку, если не сотням, новых зерносовхозов, которые — придет такое время — будут построены по велению партии в этом плодородном, но малообжитом пока крае. Так что слухи о переселении — чистейший вздор. Уверяю вас, дорогие товарищи. Это кулацкая провокация. Ни больше, ни меньше. Честно вам говорю,— весело заключил Азаров.
Сказано все это было таким тоном, что нельзя было усомниться в правдивости этих слов, в искренности директора. И ходоки, дружно отблагодарив Азарова, распрощавшись с ним за руку, покинули директорский кабинет в самом хорошем настроении.
Но совсем по-другому встретил их на другой день председатель райисполкома Старцев, В его полусумрачном от папиросного дыма кабинете оказался в ту пору и секретарь райкома Чукреев. Полулежа в ободранном дерматиновом кресле, секретарь райкома близоруко разглядывал какие-то бумаги и не сразу обратил внимание на появившихся в дверях ходоков. И только тогда, когда близнецы Куликовы снова, как и в кабинете Азарова, перебивая друг друга, заговорили о цели своего визита к председателю райисполкома, встрепенувшийся Чукреев, недоверчиво приглядевшись к ходокам, прервал невразумительные речи Куликовых.
— Стоп, братцы. Говори кто-нибудь один, толковее и покороче,— сказал Чукреев.
— Это во-первых,— в тон Чукрееву продолжал председатель райисполкома.— А во-вторых, насколько мне стало известно, гражданин, присутствующий среди вас,— он указал кивком на Филарета Нашатыря,— лишен права голоса. Поэтому я вынужден попросить его удалиться из кабинета.
Среди делегатов произошло некоторое замешательство. Нашатырь неловко переминался с ноги на ногу, и виноватая улыбка на мгновение озарила его загорелое, испещренное морщинами лицо. Кто-то из ходоков, открыв дверь, требовательно шепнул Нашатырю: «Давай, давай, выходи. Постой за дверью, раз велят!» И Нашатырь, пятясь, вышел из кабинета.
Чукреев, отложив в сторону свои бумаги, сказал, глядя на близнецов Куликовых:
— Итак, продолжайте. Мы слушаем.
— Разрешите…— начал Ефим Куликов.— Мир наш в расстройстве. Земля у нас не первый год обрабатывается. Земля, обжитая и нами, и отцами нашими. Так что переселяться с нее не к лицу.
— Не к лицу,— бодро подтвердил вслед за братом Агафон Куликов.
— Эк ведь вы какие, поглядишь на вас, шустрые,— насмешливо сказал Чукреев.
— Кулаки — не дураки: знают, кого в свои ходоки выбирать,— таким же насмешливым тоном сказал вслед за Чукреевым и предрайисполкома Старцев.
— Вот именно. Сразу видно, в чью дудочку они дуют. Смотрите-ка, переселение им не к лицу! Это кому же, позвольте вас спросить, не к лицу? — сказал, быстро вставая с кресла, Чукреев.
— Нам. Мужикам. Хуторянам,— один за другим по-вторяя одни и те же слова, сказали братья Куликовы.
Но Чукреев, не слушая их, заговорил тем строгим, внушительным топом, каким он привык разговаривать С подчиненными людьми в минуты крайнего раздражения.
— Черт знает что! За кого вы пришли сюда ратовать? За кулаков? За классовых врагов? Здорово же они вас опутали! Вместо того чтобы вам, активу бедноты, содействовать организованному переселению, вы выступаете вроде саботажников. Позор, позор, дорогие товарищи! Мы этого не потерпим. Прямо вам говорю…
Оскорбленно потупясь, мужики молча слушали Чукрсева. Говорил он внушительно, и выходило, что он совершенно прав, а они и в самом деле зря, должно быть, уперлись. Может, и вправду обмануло их общество? Хотелось только напомнить Чукрееву о том, что землемеры вырезали под новый участок явно непригодную землю — сплошной подсолонок. Они бы, пожалуй, отнюдь не против переселения, ежели участок будет заменен добротной землей, но сказать этого сейчас никто не посмел.
Завороженные рассудительной речью Чукреева, слушали его мужики, не шевелясь, и не понимали теперь только одного: как же мог очутиться на стороне врагов, о которых говорил секретарь райкома, такой человек, как директор зерносовхоза Азаров.
— Стыдно! — упрекал Чукреев.— Бедняки, передовые люди на хуторе, лучшая наша опора — и вдруг на тебе, пришли защищать кулацкую политику! Мало того — лишенца с собой привели!
Заключительные слова Чукреева окончательно ошеломили ходоков.
— Короче говоря,— заявил Чукреев,— решение районных организаций о переселении остается в силе. Об отмене такового не может быть и речи. Весной придется сниматься с насиженных мест. Ничего не поделаешь. Вот так… Ходатайствовать же за классовых врагов в дальнейшем я вам, ребята, дружески не советую. Понятно? — хлопнув по плечу Куликова Ефима, спросил, улыбаясь, Чукреев.
— Куды с добром…
— Лучше некуды…— ответили один за другим близнецы Куликовы.
— Ну вот и отлично. Договорились. Бывайте здоровы,— сказал Чукреев, кивая обескураженным ходокам.
В канун успения — престольного праздника на хуторах — ходоки не солоно хлебавши вернулись восвояси. Но доложить миру толково о результатах своего похода в райцентр ни один из них так и не смог. Однако из путаных, крикливо противоречивых объяснений всем стало ясно, что переселения не миновать.
Подавленные сидели хуторяне в Совете.
Только один Антип Карманов извивался ужом среди односельцев и беспрестанно говорил одно и то же:
— Ну вот видели! Я же говорил. Киргизов ублаготворяют, а русского человека на выселки шлют. Помяните меня, по весне не только нас — все окрестные хутора в голодные степи отправят. Увидите!
Мужики молчали. Как всегда, они на этот раз охотно согласились с предложением Карманова учинить ради праздника общественную выпивку. Решено было пропить деньги, собранные по самообложению на оборудование пожарного обоза, на что с восторгом пошел и председатель сельсовета Корней Селезнев.
— Все равно один конец — выселки! — крикнул Антип Карманов.
— Факт. Обыкновенное дело! — подтвердил Нашатырь.
— Нам теперь осталось одно — заливать горе!
— Правильно. Завьем его веревочкой — и концы в воду.
И хуторяне запили. А во хмелю пели обидчиво и крикливо тоскливые песни.
В то время когда, багровый от натуги, выносил подголосок фальцетом слова горько волнующей песни, поднималось над степью до головокружения высокое, голубое от полуденных накалов небо, плыли в солнечном мареве степные орлы и стрепеты, петляли окрест озер и родимых пашен подернутые легкой пылью дороги. И трудно было смириться с мыслью, что все это, издавна привычное и родное, становится теперь чужим и даже враждебным.
Люто пил в эту ночь и Елизар Дыбин. И хотя бутыль была уже ополовинена, опьянение к нему не приходило.
В сумерках Елизар вышел на улицу.
В конце хутора горланили пирующие мужики.