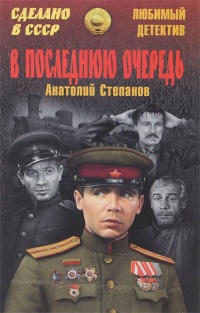Книга Встречный бой штрафников - Сергей Михеенков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Значит, снова откладываем. Ребята уже на пределе! И нервы, и физическое состояние таково, что до весны мы не дотянем.
– Скажите им: пусть держатся, – стоял на своем Арман. – Сейчас уходить бессмысленно. Уйдем в горы перед высадкой союзников. Таков приказ штаба. Пойми, Иван, мы там, в горах, нужны весной. К тому времени для нас там будет все: и оружие, и продовольствие, и одежда, и французский коньяк.
Иван понимал: Арман ведет свою политику. В горах они нужны только весной. А как быть им сейчас? Как пережить зиму? Французы и бельгийцы, на посылках из дома и от Международного Красного Креста могли ждать и дольше. А он готовился к побегу каждый день. Армана он тоже предупредил, что уйдет в горы со своей группой, как только подвернется случай. А ждать до весны – это означало медленно терять группу от истощения и болезней. Одного за другим. Уже заболел туберкулезом летчик лейтенант Трегубов. Начал отекать от недоедания Володя Минаев, прекрасный снайпер. Через пару недель вахманы его уведут в изолятор, а оттуда одна дорога – за реку, на русское кладбище. Вот наша дорога в горы!
Авианалет решил все. Из всей группы надежных и не единожды проверенных товарищей, в которую вошли и бывшие пехотинцы, и минометчики, и артиллеристы, и один интендант, и летчик, после точного попадания бомбы в цех в живых остался только он один. Одному бежать в горы было безумием. Но ждать побега до весны означало сгнить в холодном сыром бараке, медленно доходить на жидкой вонючей баланде из брюквы и горькой, как полынь, «каве». Жажда свободы пересиливала все.
Когда его в сарае обнаружила «остовка», он испугался. Он знал, что последует за этим. Если она сообщит хозяйке. Но потом испуг сменился надеждой. Девушке было лет семнадцать. Худенькая, бледная, недокормленная, как и все «остовки», работавшие в городе, где с продуктами становилось все хуже и хуже, она осматривала его с таким радостным беспокойством, как будто видела человека, обретшего, наконец, желанную свободу. И он сразу понял, что она его не выдаст. Потом пришли двое парней, заговорили по-русски. Он их узнал. Они жили в бараке ост-арбайтеров напротив. В бараке были более мягкие порядки. И на работу они ходили без охраны. Старшего из этих двух звали, кажется, Серегой. Именно он принес к ним накануне Октябрьских праздников листовку. Да, это был тот самый Серега из гражданского барака. Оставалось надеяться, что он знаком с Арманом.
Иван вдруг понял, что Шура может не справиться с тем, что он задумал. Он пробрался поближе к двери и тихо позвал:
– Серега! Это я, Иван Воронцов из лагеря военнопленных! Не оглядывайся и внимательно слушай меня.
Радовский бежал через болото. Он торопливо перепрыгивал с кочки на кочку, стараясь не промахнуться и, ступив мимо, не оказаться по грудь в прорве.
Болото еще не замерзло. Зима не спешила в эти края. Кочки под ногами хрустели смерзшейся травой и мохом, вздыхали, будто сердясь, что их потревожили не к сроку, и медленно опускались вниз, в бурую жижу. Так что надо было выбирать следующую кочку, для следующего прыжка, чтобы не остаться в этом болоте навсегда. Наконец почва под ногами стала потверже. Туман, кутавший болото в свои влажные пелены, стал редеть. Болотный запах, чем-то напоминающий запах старого хлама, сваленного в сенях брошенного дома, исчез. Радовский перешагнул ручей с неожиданно прозрачной водой и ухватился рукой за чахлую березу. Деревцо было небольшим, тонким. Снизу ствол уже разошелся трещинами застарелой коры. Но вверху, там, где он держался, береста была ослепительно-нежной, и ему в какое-то мгновение показалось, что он держит запястье ребенка.
Радовский прислушался. Погони не было. Что ж, он позаботился о том, чтобы и мотоцикл, и танкистов нашли не сразу. Впереди, в березняке, какое-то время слышались голоса. Судя по интонации, разговаривали немцы. Значит, нейтральную полосу он миновал. Голоса затихли.
Он огляделся. Болото осталось позади. Оттуда тянуло холодной сыростью и запахом ненужных вещей, которые зачем-то собрали в одну большую кучу под протекающей крышей… Радовский смотрел в стылую мглу со смутным чувством тревоги и опустошенности. Он пришел оттуда. И его вдруг настигло то, что, как ему казалось, уже пролетело мимо. Что это? Почему у судьбы такая замысловатая траектория? Значит, настала пора. Лучше слепое Ничто, чем золотое Вчера… Нежная береста оставляла на ладонях белый меловой налет, похожий на раздавленную цветочную пыльцу. Он понюхал пальцы, на которых виднелись меловые следы пыльцы. Запах молодой бересты был таким же, как в детстве. А еще он напоминал запах волос сына.
Настал миг, о котором Радовский мучительно думал все эти месяцы. Однажды ему показалось, что этот миг прощания со всем, чем он жил, что любил и к чему стремился, он уже пережил. Когда расставался с Аннушкой и Алешей. Он простился с ними, зная, что, возможно, прощается навсегда. И земля под ним не разверзлась. Он даже почувствовал облегчение. Быть может потому, что вновь обрел свободу. Он понял тогда в себе одну очень важную вещь: свобода заключается не в свободе жить, а в свободе умереть. Это была какая-то высшая свобода, которую не стесняли уже ни семейные узы, ни религиозные догматы, которым, впрочем, он никогда не следовал, ни, тем более, рамки и требования уставов. Всех уставов, которым он когда-то следовал.
Значит, настала пора…
Золотого Вчера уже не будет. Это он знал точно. Это он уже определил для себя раз и навсегда. О слепом Ничто можно поразмышлять. Но не теперь. Лучше за стаканом рома. И лучше в чьей-нибудь компании. Например, Зимина. Или Владимира Максимовича. Но Владимира Максимовича уже нет.
И все же пора настала.
Он снова потрогал нежную кожуру березы и понюхал ладонь. Запах был тем же. Ничего не исчезло. Боли не убавилось. Но теперь можно было пожить и с нею, с этой внезапной болью. Чтобы оставить позади и ее. Как он оставил усадьбу, могилы родителей, а потом жену и сына. Он думал, что удалось проститься со всем и со всеми постепенно. Но он ошибся. Все сошлось вот здесь и сейчас. На этой худосочной березке, на нежности ее молочной белизны, на ощупь напоминающей прикосновение к детскому запястью. Все, что родственно, сходится в одной точке. Зачастую неожиданной. До этого казавшейся незначительной, малозаметной.
Радовский внимательно осмотрел свои руки. Никаких посторонних пятен, кроме берестяной пыльцы, он не обнаружил. Тут же вспомнил: и бритву, и руки он вымыл сразу, как только подошел к болоту. И теперь бритва снова лежала за голенищем сапога, нагретая его теплом, чистая, сухая, как будто он ее оттуда и не вынимал. В сущности, он ее и не вынимал. Он ее выхватил. Когда их всех, встретившихся там, на дороге, настигло то мгновение, которое уже не могло разлучить просто так, как незнакомых людей, случайно встретившихся на лесном проселке. Уже завтра он тщательно побреется этой бритвой и будет свеж и полон сил.
Что ж, пора идти. Пора сбросить с себя весь морок условностей, что в иных обстоятельствах можно было бы назвать долгом, памятью и еще чем-то обязывающим, что сейчас не имело никакого значения. Он достиг той абсолютной свободы, за которой зияли пустота. Он снова оглядел окрестность. Там, за березняком, наверняка проходит немецкая траншея. Именно оттуда минуту назад слышались голоса. Может, охранение. Может, опорный пункт с пулеметом. Эти, не задумываясь, могут дать очередь наугад. На звук. Для острастки, побаиваясь разведгрупп противника. Нет, окликать немцев он не будет. Выстрелят так выстрелят. Значит, судьба. Мне ясно кажется, что кровь пятнает многие страницы… Так оно и есть. Лечь здесь, под этой березкой, и лежать потом, пока не расклюют птицы и не растащат звери. Пока кости не врастут в почву. Никто и никогда не найдет его здесь. Дожди и талые снега омоют последний тлен с его костей. Они окаменеют и станут частью земли. И тогда уже родина всегда будет с ним навсегда. Потому что он сам будет частью этой земли. Какая прекрасная участь для солдата… У него даже пересохло в горле.