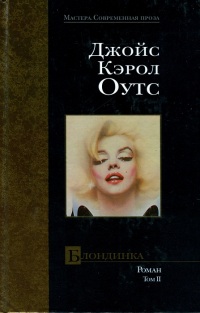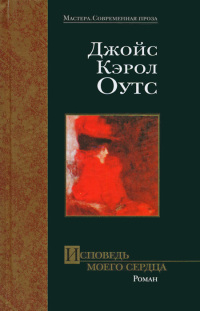Книга Делай со мной что захочешь - Джойс Кэрол Оутс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Элис?! — сказал Хоу, не веря собственным глазам. — Элис?! Ты же в состоянии мне помочь, верно?
Она сказала: — Джек поможет.
— Да. Джек тоже поможет. Я и с Джеком, конечно, собираюсь говорить… но твой брат — мальчик довольно замкнутый и…
— Джеку придется это сделать, — сказала девочка.
— Сделать? Что сделать?
Она постояла с минуту словно в оцепенении, даже не пытаясь ничего сказать, просто выключившись, затем, после мучительной паузы, выдавила из себя, так что Хоу еле расслышал: — …сказать все… все, что надо…
При мысли о мальчишке на душе у Хоу вдруг стало тревожно — чувство возникло где-то глубоко, оно будоражило: этакий упрямый паршивец.
3
Тысяча девятьсот пятьдесят третий год. Январский день. Еще один январский день. По-прежнему январь, который начался с самой первой минуты года, но никак не кончится; Джек в яростном бессилии думал о том, что он, видно, никогда из этого месяца не выберется — завяз в нем, как и все остальные, среди замерзших улиц и снега, который уже с неба, казалось, падал грязным, и этих вопросов, на которые надо отвечать, этих слов, которые надо извлекать из своей головы и выстраивать.
Снова и снова — 17 января.
Переживи его заново, вспомни, вернись в него. Говори.
Адвокат записывал, хмурился, сопел, кресло под ним отчаянно скрипело. Он улыбался Джеку своей полуделанной, полуискренней улыбкой, говорил: «А дальше что? А потом?..»
Джек держал себя в руках, крепко — всегда. Ему пятнадцать лет, и он совсем не застенчив. Он тихий, молчаливый, упрямый, но он знает, что не застенчив, — даже мысль, что его могут счесть застенчивым, неприятна ему. Теперь он пяти футов восьми дюймов росту, и проблема роста больше не тревожит его, а ведь многие годы он был среди самых низкорослых мальчишек, но теперь…
Семнадцатое января — день накануне убийства; восемнадцатое января — день убийства; а в другой январский день, немного позже, Джек почувствовал яростное бессилие при мысли, что застрял в этом месяце вместе со всеми остальными — своим отцом, матерью, сестрой — и никогда ему из этого месяца не выбраться.
В состоянии, близком к панике, чуть не рыдая, он оборвал адвоката, который спрашивал его о чем-то, чего он не расслышал, и взмолился: — Помогите мне из этого выбраться… Можете помочь?.. Можете?..
Хоу пристально посмотрел на него. Затем улыбнулся. Улыбнулся широкой улыбкой, словно вдруг удивившись чему-то, взволновавшись, обрадовавшись; он даже грузно сбросил ноги на пол и выпрямился в кресле. Позади него на кремовых обоях осталась тень — в последующие дни Джек понял, что на самом-то деле это было пятно, грязное жирное пятно от затылка Хоу.
— Безусловно, — сказал Хоу.
Февраль 1953 года. Джек щупал бугры на лице — их твердость и ужасала его, и чуть ли не восторгала: эти крепкие, твердые покатости и углубления казались его пальцам огромными, страшенными. Поэтому он всегда с удивлением ловил свое отражение в зеркале и убеждался, что не так уж они его портят, — значит, никто не видит, какой он на самом деле.
В лице его прежде всего обращали на себя внимание глаза и темные, упрямо изогнутые брови — люди видели их. «Лицо Джека Моррисси для публики», — думал он. Сильное лицо. Надо только покончить с этой улыбочкой — кривой, застывшей, извиняющейся улыбочкой, такой же, как у сестры; с этим надо покончить.
И он покончил.
— Давай еще раз пройдемся по семнадцатому января, — сказал Хоу.
Джек втянул в себя воздух. Он научился у кого-то — то ли у какого-то старшеклассника, то ли у самого Хоу — скрещивать и разбрасывать ноги, отчего тело его дергалось, словно существовало само по себе, тогда как он не отрываясь глядел в чье-то лицо. Он знал, что бояться смотреть на людей — признак застенчивости, слабости. Поэтому заставлял себя смотреть, заставлял себя не отступать. Он начал замечать и презирать слабость, стеснительность, молчаливость — дрожащие, нерешительные паузы в речи матери, сестры, отца — еще до того, как стал другим… Сестра ходила всюду с этаким несчастным, страдальческим, опущенным вниз лицом — она, казалось, боялась оторвать взгляд от тротуара, и вид у нее был какой-то пришибленный, виноватый; в Джеке закипало бешенство, когда он видел, как она идет вот так по улице, и ему хотелось подбежать к ней, закричать ей в лицо…
Мать его вообще не выходила.
— Итак, семнадцатое января, — сказал Хоу.
— Я больше ничего вспомнить не могу, — раздраженно сказал Джек.
Неужели ты не хочешь помочь своему отцу? Спасти своего отца? Джек чувствовал, что Хоу требует от него этого. Сидит, скрестив руки на могучей груди, смотрит на Джека, оценивает его, ждет. Но самого вопроса не задает ему. Задал лишь однажды — на первой неделе. Джек это отметил. Он боялся этого вопроса и, однако, все ждал, что Хоу задаст его, а Хоу больше не задавал.
— Все это становится как сон, — сказал Джек. — Точно во сне, который даже не я видел… все перемешалось… Я знаю, как все было — одно, потом другое, но знаю потому, что меня заставили так запомнить, а не потому, что на самом деле помню.
Хоу молчал. Джек кинул на него встревоженный взгляд и увидел на его лице сочувствие, терпение. Граничащее, однако, с нетерпением.
— Мне иной раз кажется, что у меня… ум за разум заходит, — сказал Джек. — Я путаюсь в мыслях.
— Я должен помочь тебе вспомнить, — сказал Хоу. — Потому мы с тобой и перебираем все факты.
— Но я путаюсь…
— Неправда.
Джек потер глаза, потом лоб — медленно потер, и под его чувствительными пальцами возникли обширные неровности, рытвины, весь таинственный ландшафт, который был сокрыт от Марвина Хоу.
— Коща станешь давать показания, ты все отлично будешь помнить, — сказал Хоу. — Джек?! Ты меня слушаешь? Ты все будешь помнить, потому что будешь основываться не на сохранившихся воспоминаниях, а на тех, которые мы с тобой извлечем на свет. Это ты и будешь помнить.
Джек слушал его и мысленно заново проигрывал, разбирал то, что говорил Хоу.
— Твоя память, — говорил тем временем Хоу, — несовершенна, как и память любого человека… ничье сознание само по себе, от природы, не совершенно — ты этого не знал? Ты можешь сделать из своего сознания все, что угодно, но надо знать, как за это взяться. Тебе это понятно, да?
— Да, — сказал Джек.
Уже февраль; он пережил январь, прожил каждый день и каждую ночь этого бесконечного месяца, который по-настоящему начался для него 17 января. Но когда Джек думал о предстоящих месяцах — о двух месяцах до дня суда над отцом, об отрезках в двадцать четыре часа, сквозь которые надо пройти, — мозг его словно выключался, не от тревоги и отчаяния, просто наступало бесчувствие, пустота. Тошнотворного ужаса первых дней с неожиданными приступами рвоты уже не было, а было нечто похуже — туманная пустота, необитаемое пространство, которое — он знал — именовалось Джеком Моррисси. Однако он не чувствовал себя в силах кем-либо заполнить его.