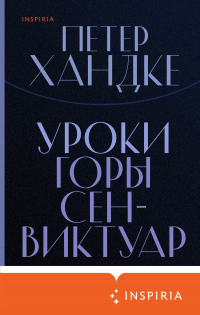Книга Синие горы - Елена Ивановна Чубенко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Налегали на ливер, который редко-редко перепадал от добытчиков фронтового пропитания. А Пашка ещё и угостила всех из санинструкторской фляжки. Задохнулись-заподкашливали бабёнки, сраженные солдатским лекарством. От повторного глотка отказались — порешили мужикам, которые не уместились вместе с ними, оставить на второй стол.
— Вот и радость нам нечаянная: солдаты пришли. За Победу, бабоньки, пусть поскорей приходит, — провозгласила тётка Дарья, бригадирша колхозная. — За солдатиков наших, Пашу и Ганьку! — Охнув от неожиданной крепости, скомандовала: — Надо нам Ганьку-то прикрепить за кем-то, а то уташшут в соседнюю деревню, там с мужиками совсем беда.
Вера, раскрасневшаяся от жара печки и от грамульки спирта, метнулась в запечку и неожиданно, даже для самой себя, обняла Ганьку:
— Я думаю, за мной его закрепим, — расхохоталась в самое его ухо, разгоревшееся от близости печи и ещё более опасной близости Веры.
— Да ты сдурела, чо ли? Ты ж его приспишь! Погляди, какая ты и какой Ганька! — аж подлетела с лавки Рая.
— А я его аккуратненько, в зыбочке держать буду, — озорно рассмеялась Верка. — В зыбке буду баюкать, валенки ему куплю!
— Всё б надсмехались, дядя Лисей. Никакой сурьёзности! — пытается сурово отвертеться от горячих Веркиных рук Ганька.
— Ганька! Да у ей сурьёзности эвон, целая запазуха, куда сурьёзней-то! — приобняла Верку Дарья, казавшаяся супротив крепкой девахи воробейкой.
— Ну да, Вера! Мы бы с тобой покрупней ребят с поля боя уволокли. Весу в тебе поболе, чем моего, — с грустью улыбнулась Пашка.
— Паша, доча. А ты приглядывалась к им, раненым? Наших-то там не видала? — заглядывая в глаза, спросила тётка Анна, с такой надеждой всматриваясь в Пашу, в её руки, будто уже видела там в них кого из своих мужиков.
— И правда, доча? У Анны-то трое там. Может, видела? — И все бабы подались лицами к Паше, цепляясь за каждое движение бровей, рук, глаз: только бы не пропустить весточку, которую она сообщит.
— Может, Паш, моего видела? — туда же встряла Рая-почтальонка.
— Не, миленькие мои. Если б кого видела! Это ж счастье-то какое — земляка своего увидать, — отвечала Пашка. Про то, что все раненые чаще всего в крови и не видать ни лиц, ни глаз, рассказывать не стала, чтоб не тушить те искорки, что горели в глазах у каждой соседки.
— А твой-то мужик — фронтовик? Воюет? Или дохтур?
— Да не муж он мне. — Пашка не стала кривить. — Земляк он наш. Из Читы. Вытащила из-под огня, собой закрыла. Под Прохоровкой это было. Слыхали, может? В июле сорок третьего. Меня тоже тогда ранили. Лечились вместе в госпитале, уж больше года назад. Жалел всё, что не он меня спасал, а я его. Говорит, не бабское это дело — война, дома я должна быть. Вот и списал нас, к дедушке с бабкой, подчистую, — улыбаясь, виновато оглядела всех в застолье.
— Поди, и женатый? — зазмеила и без того тонкими губами Рая.
— Женатый, — отрезала Пашка, не пряча глаз. Понимала, что в своей деревне этот вопрос зададут первым. Непривычно отрезала, по-мужицки. До войны тихонькая да мягкая была, как трава у берега.
— Вот какое тебе дело, а? Человек токо с дороги. А ты к ей в душу лезешь! — заступилась за Пашку Дарья.
— Вот-вот. Так вот медали и зарабатывают, — понимающе кивнула Рая. — Командирчик какой, при должности, женатый. Тут тебе и «Отвагу» на грудь и отпуск со списанием. Кому война, а кто коло чужого мужика под бочком полёживал.
— Помолчи! — как кнутом, стеганула Дарья.
— Ты мне, бригадир, не затыкай рот. Ишь, героиня приехала, с брюхом. Мы думаем, они там воюют, жилы тут рвём! — с каким-то остервенелым повизгиванием выкрикивала почтальонша. — А некоторые по чужим мужикам воюют.
— Ты-то рвёшь? — тут уж понесло Дарью, с малолетства света белого не видевшую из-за работы.
— Помолчи уж. То шшитоводствовала, а то вот почтой заведуешь. Ни на лесу, ни коло быков не чертоломила. А твоего мужика ни в войну, ни без войны никто не заберет. Кому он нужен-то, чучело поперёшное!
Бабы за столом загудели, кто-то жалостливо поглядывая на Пашку, кто-то на разбушевавшуюся почтальонку.
— Знаешь, говоришь, как медали зарабатывали? — Пашка чуть отодвинула стул от столешницы и встала, прикрывая ладонями живот. Показалось, что накрыло её взрывом, и сразу и не понять, живая она или нет, гулко ухает в ушах стук собственного сердца, и в голове гул, как от авиабомбы:
— Твоего, говоришь, не видала ли? Твоего? Да вы знаете, каких я там их видела? Лица нет, кровь и земля. Рук иногда тоже нет или ног. Кишки на полметра, вперемешку с землей… Орёт он дурным голосом. Мамку зовет. И не поймёшь порой, старик или молодой. Волочишь его, бедненького. А тебя в пути ещё пару раз то минами накроет, то с танков или, того страшней, с самолёта… И кажется, нету этому ни конца и ни края. И что кругом только те, кто орут и молят: «Сестричка». А вы представляете, как это — тащить мужика, который тебя тяжелее, когда в тебя ещё и стреляют?
Пашка уже не говорила, а шептала свистящим тихим шёпотом, от которого всем стало не по себе: — А вы знаете, как это — лежать в окопе, в мокром снегу, когда на тебе месяцами не стиранная одёжа? Когда вши пилотку на голове подымают? Когда телогрейка колом от чужой крови?
Молоденькая Верка (когда Паша уходила на фронт, Верка была совсем дитём) крикнула:
— Помолчи, тётя Рая! Паша! Рожай, миленькая моя! Рожай! От кого хочешь, лишь бы родился кто. Тебе ещё повезло. А мы-то от кого рожать будем? — Слёзы полились по щекам речкой, заголосила. — На всю деревню мужиков четыре старика да три фронтовика! Пацанов с быками до полусмерти на пашне с десяти лет заездили. А придёт ли ещё кто домой? А кто потом поля-то наши пахать будет? Тётя Рая? Ты? Дак ты старая будешь! Не слушай ты их. — Обняв Пашку, Верка разрыдалась. Все знали, что похоронка на её ухажера довоенного — Кольку, пришла в деревню с месяц назад. И девятнадцатилетняя Верка в одночасье стала старше. Ямочки на щеках превратились в тёмные впадины, а глаза уже не блестели искорками, как они блестели всякий раз, когда она была рядом с Колькой. Даже косы, которые раньше были вокруг головы задорной «корзинкой», казались сейчас тяжёлой спутанной верёвкой вокруг шеи. Пашка бросилась за занавеску. Сняв гимнастёрку, легла на кровать и закрыла уши ладошками, чтобы не слушать разговоры.
А за столом не унимались.