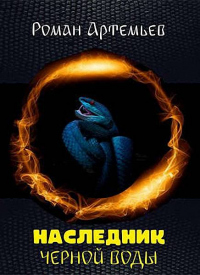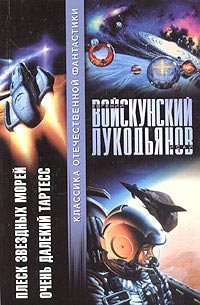Книга Зеркало воды - Софья Ролдугина
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Наверное, следовало сказать что-то. Может быть, прочитать молитву.
У меня сильно болела голова. Мысли мои путались, к горлу подкатила тошнота.
Мертвый профессор сидел в ореоле белых и фиолетовых молний на троне, который так долго собирал вместе со своими ассистентами, а потом вез с собой через всю страну, чтобы отдать в руки тем, у кого хватит решимости его применить. Изменить историю.
Потрескивали молнии и разряды, поливали профессора ярким светом, придавая ему какой-то мрачной торжественности.
Я помотал головой, с силой зажмурился. Склонившись над выступом с круглым окошком, я покрутил ручку барабана, про себя повторяя выскакивающие в застекленном окошке цифры.
– Сто… двести… триста… четыреста…
Может, через тысячу лет уже научатся возвращать к жизни мертвецов? Может, вы уже не делите людей на белых и красных, потомки? Не стреляете друг в друга из-за того, что у одного погоны, а у другого красная лента на шапке?
Может, вы научились жить в мире?
Вот вам мое послание, мои далекие потомки. Что еще мы можем передать вам, кроме деяний рук своих и собственных гнилых костей?
Наши мысли, чувства, нашу радость и боль вам не отослать. Если только при помощи слов. Но слова хрупки, бумага недолговечна, а рукописи истлевают, не прочитанные никем.
Как там было у Пушкина? В надежде… В надежде я гляжу… гляжу вперед я без боязни… Не помню, забыл. Пушкин вот не боялся, а мне страшно.
Я с громкими щелчками отжал вниз один за другим все пять рычагов, про которые говорил профессор. Ничего не перепутал.
Молнии плясали теперь по всему помещению, стало светло, как днем.
А потом полыхнуло особенно ярко. Я зажмурился и на миг оглох от оглушительного треска и какого-то низкого утробного гула, пробиравшего до костей.
Все стихло. Возвышение в центре аппарата пустовало.
Никаких следов не осталось от профессора, кроме коробка спичек, который я судорожно перекатывал пальцами.
В звенящей тишине громко клацнули рычаги, возвращаясь на свое прежнее положение. Я вздрогнул.
Что теперь?
Моя очередь воспользоваться этой лазейкой? Бежать отсюда?
Прыгнуть в прошлое? Пристрелить маленького Володю Ульянова? Задушить рояльной струной кучерявого мальчишку Леву Бронштейна? Предупредить царя? Сообщить в газеты? Сделать загодя выгодные вклады? Сделаться модным предсказателем? Загодя выправить билеты в далекую теплую страну?
Голова идет кругом от перспектив.
Или попробовать вперед? Посмотреть, как далеко все зашло, кто выиграл? Посмотреть, получилось ли у них стать лучше нас? Выучиться на наших ошибках?
От боков аппарата исходило неяркое голубое сияние.
Он манил, искушал, вселял надежду.
Я перехватил винтовку поудобнее и стал бить по аппарату прикладом. Без какой-либо определенной цели, но стараясь нанести как можно больше ущерба. Что-то затрещало внутри, что-то погнулось. С лязгом оторвалась одна из стальных решеток, покатился по полу длинный стержень с круглым набалдашником. Ударом ноги я повалил аппарат набок и колотил по нему еще с минуту.
Потом вытащил из кармана шинели пачку «Османа», зажег спичку из профессорского коробка, закурил папиросу.
Пусть все идет, как должно.
Играть со временем и пространством, пытаться изменить ход истории? Увольте, это не мое. Я парень не робкого десятка, и Фортуна меня любит. Как- нибудь устроюсь в жизни.
Я брел прочь от Покровки, ориентируясь по далекому грохоту канонады. Метель стихла, загорался тусклый рассвет. С минуты на минуту я ждал погони, которая настигнет меня. Вот так, шашкой с размаху – и не увижу никогда, думал я, какое оно будет – наше будущее.
Гнаться за будущим не имело смысла, оно давно настало для нас и уже довольно прочно утвердилось в мире, который мы раньше самонадеянно считали своим. С каждым новым днем будущее все прочнее утверждало себя, изрядно сдабривая кровью ростки нового мира.
Погоня меня так и не настигла. На рассвете Покровку атаковали наши, а к полудню меня уже отпаивали спиртом на позициях моего эскадрона. Провал порученного мне предприятия привел полковника в бешенство, но сделать он со мной ничего не успел, потому что красные начали контрнаступление, полковника убило шрапнелью, а про историю с профессором и его «материалами», которые мне не удалось доставить, никто никогда не вспомнил. А потом забыл про нее даже я, потому что Будущее взялось за меня по-серьезному.
Настало время беглецов.
Бежали все.
Одни бежали следом за великой мечтой, ослепленные ее призрачным сиянием и еще не чувствующие того жара, что вскоре изрядно опалит их, а кого и испепелит вовсе.
Другие бежали прочь от этого сияния.
Основная же масса бежала потому, что все бегут, повинуясь тому смутному и страшному инстинкту, что, должно быть, движет печально известными стадами леммингов.
Бежал и я.
После разгрома Директории мне, можно сказать, повезло. Я отправился в Манчжурию, потом в Корею, потом в Китай, где, подключив врожденный авантюризм и склонность к аферам, я оказался даже в некотором выигрыше. Наконец судьба и личная инициатива занесли меня в Соединенные Штаты, рай предприимчивых циников и дельцов с хваткой. Выброшенный, как рыба на берег, революцией в собственной стране, я пошел на подъем благодаря депрессии в стране чужой, которая стала для меня новой родиной. Скупой на ласку, но щедрой на подарки мачехой. Бутлегерство, игорный бизнес, банковские махинации. Я начал свой путь к процветанию. Мировая война лишь укрепила мое положение. В отличие от многих, я точно знал, чем все закончится. После того, как малая родина русских императоров, захваченная шайкой дорвавшихся до власти бюргеров, ополчилась на тот самый народ, с которым уже имела несчастье сражаться в этом веке и вроде бы должна была сделать соответствующие выводы, мне стало ясно, что все эти бюргеры обречены. Так и случилось.
Время шло, люди не менялись. Дела мои шли в гору. В моих имени и фамилии давно уже не осталось и намека хоть на что-нибудь русское, остатки акцента мне удалось искоренить путем долгих тренировок.
К началу шестидесятых многие могли бы позавидовать мне.
Будущее любит упорных и настойчивых.
Об истории, приключившейся много лет назад в деревне Покровке, и о профессоре, с которым свели меня дороги забытой войны, я вспомнил лишь однажды, в апреле шестьдесят первого.
Мои американские внуки были очень удивлены реакцией дедушки на утренние газеты. На первых полосах в них были фотографии улыбающегося русского парня в летной форме и признание победы Советов в космической гонке.
Дэдди выжил из ума, решили дети. Но мне было все равно.
Я, степенный седовласый господин, отец семейства, успешный предприниматель, друг конгрессменов и банкиров, добропорядочный христианин и убежденный республиканец, выпил в одно лицо бутылку русской водки и долго ходил по обширному саду резиденции в георгианском стиле, топтал лужайки и цветники и горланил песни на почти забытом языке. «Калинку», «Славянку», «Олега», что-то еще из репертуара моей дикой и страшной юности.