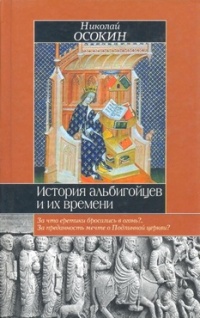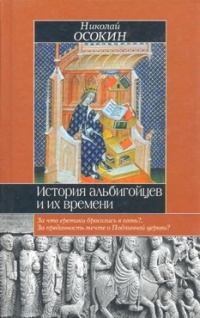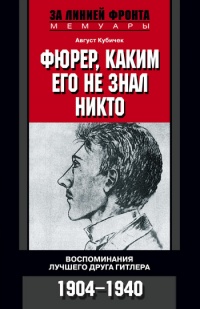Книга Восстание. Документальный роман - Николай В. Кононов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Авантюру следовало обсудить с Анной, единственным человеком, способным сейчас меня понять. Я не сомневался, что хотел бы украсть ее с детьми из неволи. Разводиться при противодействии родственников, которые могли бы потребовать детей в обмен на свободу и в случае отказа спустили бы с цепи адвокатов, казалось крайне сложным. Серж и Леон вряд ли помогут спрятаться. Побег казался все желаннее. Анна подговорила соседку заверить свекровь, что они вдвоем идут в кинематограф, и потом пересказать ей фильм, а сама поспешила в предместье Шателье. Там был небольшой парк, где мы бы точно не встретили никого знакомого. Кончался холодный август, и Анна пришла в летнем пальто. Начался сильный дождь, и, пока мы искали укрытие, очень промокли и замерзли. Под навесом сгрудились, дымя папиросами, шахматисты и такие же попавшие под ливень прохожие, и этот человеческий клубок грел нас. Я понимал, что не могу позвать Анну вернуться, пока не скажу, как люблю ее, и не добьюсь ее поцелуя. Дождь кончился, и мы, не до конца согревшись, забежали в крошечное кафе, где кроме стойки было лишь два столика. Я принес Анне и себе аперитив, и от аперитива стало по-настоящему тепло. Потом мы зачем-то выпили еще сладкого вина и наелись тефтелями так, что стали взаправду похожи на шары из бочче. Дети разошлись, карусель с летающими креслами была свободна, и мы полетели. Голова кружилась, вокруг мерцали огни фонарей, освещая лицо Анны, прежде чем она вновь скрывалась в сумраке. После долгого кружения мы смешно шатались и сбивались с шага и наконец плюхнулись на ближайшую скамейку. «Может, здесь?» — спросила Анна, и я понял, о чем она говорит. Ни слова не говоря, я взял ее за плечи и поцеловал в глаза, потом в губы, еще и еще. Так прошло полчаса. Мы сидели обнявшись. «Мне нужно вернуться, — произнес я наконец и понял, что сказал не то. — Давай возьмем детей и вернемся». Анна положила голову мне на плечо и обняла крепче. Спустя минуту она заговорила.
«Сережа, почему ты хочешь убежать, когда у тебя все только что наладилось?» — «Я хочу бежать ради тебя, тебе здесь плохо…» — «Подожди, но необязательно же возвращаться». Слова неловко ворочались у меня во рту и точно вязли в ириске-тянучке. «Я здесь чувствую себя чужим». — «Но не настолько же, чтобы возвращаться туда, где тебя пошлют в Сибирь». — «Не пошлют! Я пошел в русскую армию, чтобы не сдохнуть от голода, и подчинялся бывшим офицерам Красной армии! В партизан не стрелял, ни в одной операции не участвовал, бумажки писал в штабе, а потом отказался идти к эсэсовцам, и меня сослали в проклятые горы — разве за это сажают в тюрьму? Четыре года назад, может, и сажали, а теперь точно всё. Не похвалят, конечно. Но я и не жду, что хвалить станут». — «Нет, Сережа, что-то не так ты говоришь. Тебе здесь не плохо. Ты бы здесь смог делать, что хочешь, ты умеешь приспосабливаться. Вот мне по-настоящему плохо. Мне так плохо, что я бы хоть сейчас убежала. Да, я вспоминаю, как нам врали, что немцы далеко, и я им никогда не прощу, что они увезли папу, а нас бросили. Но я поняла другое: что везде чернота, везде свои беды, везде злые люди — и мне главное, чтобы с тобой. Что такое?» — «Я не хочу врать. Устроиться можно, Леон предлагал войти в долю с его друзьями, конструкторами. Но мне снятся они. И мама, и Марго, и Оля. Папа и Толя реже, но эти сны настоящие. Сначала они начинались и заканчивались прямо в том месте, где я ложился спать. Потом, в лагерях, такие сны исчезли, будто мне черный мешок на голову надели. А теперь начали снова сниться. Меня зовут. То есть не кличут прямо голосом, но смотрят так, что мне ясно: они живы». Мы помолчали. Анна тяжело вздохнула и приблизила свои глаза к моим. «Сережа, это сны. Конечно, у нас в трудлагере девки верили в вещие сны, но почему ты-то веришь?» — «Я не думаю такими словами — верить, не верить. Эти сны настоящие. Я могу своих взять за руки во сне и почувствовать. Они ждут меня. Я очень виноват перед ними». — «И чем ты виноват? Если ты мне все рассказывал как есть, то ты вовсе не виноват. Просто ты старший, ты сын, и тебе кажется, что ты в ответе за них. Тебе плохо оттого, что не можешь их сейчас увидеть». — «Я виноват в том, что сгинул, что на самом деле хотел от них уехать и жить самостоятельно, а вовсе не найти отца. Как будто это был предлог — ведь я понимал, что почти нет шансов его найти». Еще минута прошла в тишине. «Я читал немецкую присягу, и потом мой батальон убивал партизан. А еще я рассказывал — горящие избы. Я не виноват, но…» — «Но это было давно. Не может же быть, чтобы после всего этого кошмара не началась новая жизнь, ведь многим должны простить — если всех арестовать за их грехи, то кто тогда на свободе останется…» — «Подожди, я предал? Я, по-твоему, виноват?»
Проходивший мимо полицейский посмотрел на меня. Я раскричался. Сияющие глаза Анны приблизились, и мы целовались солеными от слез губами. Затем встали и отправились вдоль мутных волн Самбра, по-прежнему обхватив друг друга, — сначала неловко, боком, как пьяницы, полезшие руками в рукава одного пиджака, а затем уже почти не спотыкаясь. В воздухе висела морось. Цистерны, конвейеры с рудой, коллекторы, застилающие небо коробки цехов, извивающиеся трубы — все это гудящее и лязгающее царство громадин присматривалось к шарам из бочче, которые катились, иногда приостанавливаясь, по набережной. У поворота к мосту, за которым начинались южные кварталы Шарлеруа, мы расцепили руки, и, хотя всё уже было проговорено, Анна спросила: «А если тебя все-таки арестуют?» Я был пьян и в тот момент не помышлял ни о чем, кроме желания обладать ею. Мы вжались друг в друга и долго не могли расцепиться. «Нет, за мной ничего нет».
Я бродил по городу, стоял у градирен, оглядывался на домны металлургического завода и смотрел на великанов с обвисшими рукавами — от одного к другому тянулись высоковольтные провода. Все эти башни и копры казались гораздо более живыми, чем многие встреченные мной люди. Человек их воздвиг, и они наблюдали творимые создателем мерзости. Они молчаливо свидетельствовали и даже соучаствовали в мерзостях, покрываясь с годами грязью и осадком от выхлопов дыма и выбросов взвеси. С холма над Шарлеруа заводы казались расползшейся по земле рукотворной и ослепляюще красивой опухолью. Ниточки их огней были сосудами, наполненными порченной кровью. Бесконечно ползли по насыпям вагоны с ископаемыми — изъятыми невидимым хирургом внутренностями земли. Фабрики строили, молясь богу металлов, стали, прогресса, и теперь исключить их из ландшафта было невозможно. Впрочем, меандры рек и пятна лесов тоже напоминали пигменты кожи и слились с опухолью воедино. Земля, обжитая человеком, уже была изваляна в грехе, и это казалось мне смутно связанным с достижениями, с прогрессом. Именно смутно — стоя над мигающими огнями плавилен, я не мог объяснить эту связь, тем более нахватавшись с непривычки вдрызг.
Утром я посвятил Леона во все. Он догадывался и даже не попытался меня отговорить. Леон слушал восхитительный план побега, кивая и соглашаясь, и я понял, что перед ним плывут картины из его прошлой жизни и что ему совсем не хочется вновь погружаться в одинокое существование. Свернув разговор, я взял свои документы и отправился звонить по номеру советского консульства, который мне дали в пункте для дипи. Там сразу ответили, я записал приемные часы репмиссии, список документов и через неделю взял бумаги Анны и детей и тут же, быстрее, чтобы не передумать, сел, как в мутном сне, на поезд до Брюсселя. Всю дорогу рассматривал сеточки трещин на лакированных рейках скамьи и почему-то думал о сумасшедшем с куклой. Консульство находилось не так далеко от вокзала, и внутри него у меня чуть прибавилось уверенности: люди в мягких костюмах вели себя вежливо и не требовали покаяния, не бросали косые взгляды. Они даже выглядели не очень по-советски. Я передал написанную Анной биографию, заполнил исходя из содержащихся в ней фактов опросный лист, сдал фотокарточки, а потом и все свои документы. С ними обошлись буднично, майор из отдела репатриации в конце приема даже улыбнулся и сообщил, что никакого поражения в правах с нами не случится. И все равно следующие пять месяцев я ждал, что однажды ночью дверь нашего с Леоном дома выбьют сапогами и люди в форме заломят мне руки, накинут на голову мешок и бросят в тюрьму при посольстве. Однако затем пришло письмо: изложенные сведения не вызвали вопросов, документы на вас запрошены и получены, оснований для отказа нет, родина вас ждет. На отдельном листе был указан рейс из Антверпена в Мурманск и дата с временем отправления. Анна же эти пять месяцев жила в своем молчаливом доме из последних сил — у мужа здесь же, в городе, появилась женщина, и отношения со свекровью и золовками запутывались все сильнее. Морское путешествие длиной в неделю ее, конечно, пугало — кто знает, вдруг оно превратится в бесконечный приступ детской рвоты, — но и жизнь с ними казалась невыносимой.