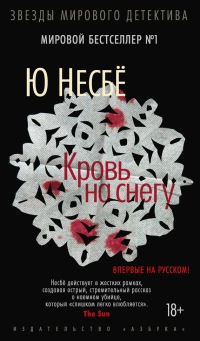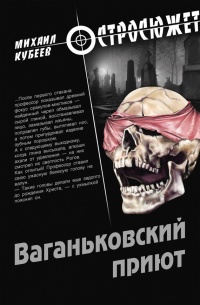Книга На льду - Камилла Гребе
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это тебе за деньги, которые ты у меня украл, подонок!
В ту ночь я впервые за долгое время спокойно сплю. Даже запах дыма, въевшийся в кожу, мне не мешает. Я приняла душ два раза, но все равно чувствую этот запах. Я просыпаюсь с воспоминанием об огне этого пожарища. Вспоминаю, как всполохи осветили осеннюю ночь, как кожу опалило жаром, хотя я стояла далеко от гаража. Это был очистительный огонь. Не знаю, что стало тому причиной, – огонь или то, что я наконец отплатила Йесперу его же монетой, но на душе у меня стало полегче.
Я встаю, принимаю душ, одеваюсь и съедаю тарелку простокваши с хлопьями на завтрак. Одновременно с завтраком умудряюсь причесаться и накраситься. Может, это мое воображение, но мне кажется, я выгляжу бодрее. И сильнее. Может, это действительно так. Может, это лицо в зеркале принадлежит другой женщине. Может, вчерашний вечер сделал меня другим человеком.
Перед выходом из дома достаю визитку журналиста из банки со счетами и кладу в карман. Пора ему позвонить. По дороге к метро замечаю, что что-то еще сегодня по-другому. Сперва я не знаю, что именно, но потом до меня доходит. Впервые за несколько недель светит солнце. Я останавливаюсь, закрываю глаза и поднимаю лицо к небу. Впитываю свет и тепло. Жду, пока кожа согреется, и думаю, что жизнь не так уж и ужасна, несмотря на все, что случилось.
Почему-то мне вспоминается папа в вечер накануне самоубийства. Я лежала в темной спальне и слушала шаги родителей за стеной. Я не понимала, почему мама так тревожится из-за болезни отца, которого, как она утверждала, она ненавидела. У нее как-будто было только два настроения: она была или зла, или встревожена. Сегодня она выбрала последнее.
Полдня мама провела на телефоне с тетями. Я делала домашку по физике и слушала ее рассказы полушепотом о папином здоровье с употреблением слов «пассивный», «утратил интерес к жизни» и театральными всхлипами и обычными жалобами на отсутствие денег, скучную работу и злобного начальника. Все разговоры сводились к тому, что она заслуживает лучшей жизни, с чем тетушки были всегда согласны, поскольку дальнейших дискуссий на эту тему не велось.
Я задумалась, что означает «заслуживает лучшего». Мама недовольна своей жизнью. Но чего она в таком случае хочет? Другую квартиру? Другого мужчину? Другого ребенка? Но чтобы получить это лучшее, нужно ли самому быть лучше? Означает ли это, что мама лучше нас с папой? И если так, то какой жизни заслуживаю я?
Я присаживаюсь на край папиной кровати. Пахнет потом, табачным дымом и еще чем-то мерзким. В комнате такой спертый воздух, что он вряд ли заметит, что я сегодня тайком курила с Элин.
Я не понимала, почему он хочет лежать целыми днями в темноте и не разрешает раздвигать шторы. Кровать скрипнула под моей тяжестью, хотя я старалась двигаться как можно тише.
– Эмма, моя девочка, – пробормотал он и посмотрел на меня.
Он взял мою руку в свою, и это все. Больше он ничего не сказал, только лежал и тяжело дышал, словно каждый вдох стоил ему огромных усилий. Я думала о том, как его развеселить. Раньше я бы предложила ему погулять вместе или приготовить ужин, но у меня было предчувствие, что на этот раз он откажется.
– Тебе получше? – спросила я.
– Да, – после долгой заминки ответил он. Даже голос у него изменился, стал глухой, невыразительный. Словно шел со дна банки. – Эмма, моя малышка, – повторил он и сжал мою руку. – Я хочу, чтобы ты знала, как я тебя люблю. Ты самая лучшая дочка на свете.
Я не знала, что сказать. Его поведение меня пугало. Я не привыкла видеть его таким слабым. Он бывал усталым, злым, равнодушным, пьяным в стельку, рассерженным, но не слабым. Что-то было не так.
– Папа, пожалуйста.
– Эмма, – перебил он, – ты помнишь ту бабочку, которая была у тебя в банке в детстве?
– Да?
Я не понимала, куда он клонит.
– Я так расстроился, когда не смог помешать маме разбить ту банку. Я знал, к чему всё идет, и все равно не остановил ее.
– Не надо. Это было всего лишь насекомое. И случилась эта история сто лет назад.
– Это твоя мать так её называла. Но это была не просто бабочка, а твой маленький проект. Ты все лето ждала, когда она выкуклится. Ты только о ней и думала. И несмотря на это, а может, именно поэтому она ее и уничтожила. А я ей позволил. Так что мы оба одинаково виноваты.
Из темноты раздался всхлип. Или мне показалось.
– Помнишь, какая она была красивая? – продолжил папа. – Из ничем не примечательной куколки она превратилась в волшебную бабочку. Ее синие крылышки будто светились. Помнишь?
Я кивнула. От его слов у меня ком встал в горле. Я не знала, смогу ли удержаться от рыданий.
– Я только хочу, чтобы ты знала, Эмма… Ты как та бабочка. Однажды ты превратишься в чудесную красавицу. Помни об этом. Пообещай, что не забудешь, что бы ни говорили люди.
– Но, папа, – выдохнула я со смешком – весь этот разговор казался сплошным абсурдом, какой бывает только в мелодрамах. – Не говори так. Ты меня пугаешь.
Он ничего не сказал. В комнате слышно было только его тяжелое дыхание.
– Если кто-то скажет, что ты не такая, как все, думай о бабочке. Другая не значит хуже. Другая может быть лучше. Никогда не забывай мои слова. Пообещай мне.
– Обещаю, но…
Ком в горле все увеличивался. Папа никогда со мной так не разговаривал. Что-то было не так. И никакой ужин и никакая прогулка к морю делу не помогут.
– Я хочу, чтобы ты был как прежде, – шепчу я, стараясь не использовать слово «здоровый», потому что не хочу, чтобы он думал, что он болен. Мы с мамой старались не называть его состояние «болезнью». По крайней мере в его присутствии.
– Вся жизнь дерьмо, – сказал он нарочито бодро, как будто это шутка. – Дерьмо.
И это были его последние слова, обращенные к нам. На следующий день мама нашла его повесившимся.
Задолго до того, как начала интересоваться психологией, я занималась социальной антропологией. Читала работы Франца Боа и Бронислава Малиновски и мечтала поехать на год на север Гренландии, чтобы изучать жизнь и обычаи инуитов. Возможно, мой интерес пробудил старый документальный фильм «Нанук, сын холода». Я видела его в детстве. Но это было в семидесятые, интерес к примитивным народам сменился политизированной антропологией. Изучать эскимосов стало немодно. Но мой интерес не угас. Я продолжала восхищаться коренными народами. Может, поэтому Уве привозил мне из своих поездок поделки, изготовленные аборигенами. По крайней мере так он говорил, а я верила. В восьмидесятые он был на врачебном конгрессе в Майами и привез мне маску, украшенную перламутром, сделанную индейцами народности уичоли на западе Мексики. В другой раз он был на конференции по психиатрии в ЮАР и привез мне старинный пакет для табака из племени хоса.
Он продолжал привозить мне сувениры. Скоро ими был заполнен целый шкаф. Не помню, как я узнала правду. Может, меня насторожило то, что телефон звонил по ночам, а когда я подходила, в трубке молчали, может, письма с пометкой «лично в руки». А может, дело было в Эвелин.