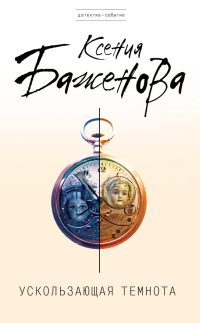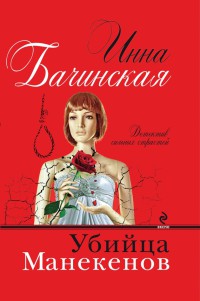Книга Дездемона умрёт в понедельник - Светлана Гончаренко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Вы сами, господин Мумозин, должны были предполагать! Они же вчера по пьянке чуть не сорвали представление! — вопил Эдик.
— Спектакль, господин Шереметев, спектакль, а не представление! — зарыдал Владимир Константинович. — Когда же вы научитесь верно говорить!
От вульгарных терминов Эдика Мумозина скорчило, как от кишечной колики. Но Эдик был прав: двое из Абакана еще вчера могли бы попасть под подозрение, потому что явили свою бесовскую сущность. Они отодрали со стены приказ за подписью художественного руководителя, где порицалась их малохудожественная игра в пьяном виде, и не только всенародно порвали его, но и долго топтали ногами, ненормативно бранясь. Почему бы тогда не насторожиться? Сейчас же было нельзя вернуть ни лампу, ни матрасы, ни фраки из «Последней жертвы», в которых и бежали негодяи.
— Если заместо них вы кого вводить в «Жертву» захотите, — посоветовал Эдик, — то от «Дурочки» хорошие костюмы остались! Неношеные почти!
— Там же Лопе де Вега! А тут Островский! — снова закатил глаза Мумозин. — Когда же вы…
Эдик махнул рукой:
— Какая разница? Один хрен!
На такую неделикатность отозвался даже, тоненько звякнув, кофейный сервиз для почетных гостей, запертый в мумозинском шкафу. Сам Мумозин и Ирина Прохоровна сделали гневные вздохи, и, не дожидаясь их реплик, Эдик выскочил из кабинета. Жаркие речи о реализме и бесовщине обрушились на Самоварова.
— Послушайте, — прервал Владимира Константиновича Самоваров, — вы мне надоели! Чего вы мне тут плетете про Вампилова, матрасы и Немировича-Данченко? Я не хочу говорить про Немировича, я хочу про Шекспира. И про стулья. Где мой договор? Где аванс?
Владимир Константинович мигом померк и ухватился за свою бороду, как утопающий хватается за соломинку. Несколько минут сидел он так, собирался с силами и мыслями, и наконец из глубин его существа стала дыбиться и катить привычная волна горделивого величия. Он выпустил смятую бороду и надменно заявил:
— Так, понятно! Деньги!.. Да как вы можете говорить о деньгах, когда…
Пока Владимир Константинович придумывал, что «когда», он громко свистел ноздрями, и выглядело это, будто он волнуется.
— … Когда театр содрогается, — наконец вывернулся он, — когда талантливая актриса ушла из жизни, и ничто не может… денег мало! денег нет! сказка на носу… похищено имущество…
— Два матраса? Вы опять? — возмутился Самоваров. — Нет уж, говорите прямо: будет Отелло сидеть на моих стульях или нет? Я у вас уже вторую неделю торчу. Потрудитесь оплатить хотя бы издержки этого моего нелепого визита.
Мумозин снова впился в спасительную бороду и так задышал, что Ирина Прохоровна пришла ему на помощь.
— Вы отдаете себе отчет? — начала она глубоким, скрипучим, виолончельного тембра голосом. — Вы отдаете себе отчет, что вы разговариваете с художником! Который раним, который работает не долотом, как вы, а сердцем! Когда приходит беда, это чуткое сердце отзывается на всякую грубость, бестактность. Успокойтесь! Месяца через два наша обновленная труппа (а мы безжалостно расстаемся с теми, кто не выдержал высочайшего уровня требований художественного руководителя!) вернется к Шекспиру… Тогда получите и стулья, и деньги!
— Черта с два, — ответил Самоваров.
«Вон отсюда — больше ни ногой, — решил он. — И Настю надо забирать. Надуют, поганцы». Ему захотелось схватить Владимира Константиновича за грудки, как делал это Геннаша Карнаухов. Хорошо еще было бы бросить в него чем-нибудь чувствительно тяжелым. Самоваров даже во время беседы присмотрел для этой цели на полке какой-то черненький бюстик. Остановило только внезапное недоумение: а бюстик-то чей? Вроде с бородой. Для Чехова борода широка, для Островского слишком козловата. Вот для Шекспира в самый раз, но Шекспир должен быть плешивый, а у этого что-то надо лбом топорщится. И на носу неровность какая-то, похоже на кусочек очков. Все-таки Чехов? Нет, борода широка… А с незначительных персон, кажется, бюстиков не делают. Может быть, это сам Мумозин? Он свои изображения любит. Тогда почему бюстик на полке, а не на видном месте? Или Немирович-Данченко был с козловатой бородой? Утонув в тине дедукции, Самоваров позорно капитулировал и в ответ на очередную тираду Ирины Прохоровны внезапно спросил:
— А бюстик чей? Вон там у вас?
— Гоголя, — удивленно ответила она.
— Нет, Гоголя я вижу. Пониже Гоголя, поменьше, темненький такой.
— А! Это Грибоедов!
Ирина Прохоровна сняла с полки бюстик и стерла с него пыль своей крупной шершавой рукой.
— Как Грибоедов? Он же с бородой! — не поверил Самоваров.
— Почему с бородой? Просто скульптура сделана в экспрессивной манере. Грибоедов, он самый! Посмотрите, вот и очки намечены — тут, где нос.
Самоваров взял бюстик и нашел на носу бороздку, напоминающую укус. Козловатой бороды вблизи действительно не нашлось, просто подбородок был тяжелый и энергично корявый. На плече бюстика было награвировано: «Вовка! Попутный ветер в спину! 1979 г.»
— Это Владимиру Константиновичу в Находке подарили. Там его чрезвычайно ценили, — пояснила Ирина Прохоровна.
Самоваров всмотрелся в непроглядно черное лицо чугунного незнакомца и ничего не нашел лучшего, как сказать:
— В самом деле Грибоедов!
Он рассеянно поставил бюстик среди немытых чайных чашек и вышел, не попрощавшись. На него накатила тяжелая тоска. «Зачем я не уехал отсюда в первый же день, как только психологизмом запахло? Одни убытки, одна головная боль! — рассуждал он. — Сумасшедший город, сумасшедший театр. Настя там, в Нетске, захочет ли в самом деле выходить за меня? Или это просто ушуйское наваждение — здесь ведь все сумасшедшие. Если не захочет, что я буду делать? И зачем мне вся эта путаница непролазная? Зачем Отелло? Зачем Таня?»
Он дошел до конца коридора и стал открывать дверь, через которую обычно попадал на лестницу и затем в свой цех под крышей. Но сегодня дверь была почему-то заперта. Самоваров подергал ее так остервенело, что даже ручка ее ослабла на ржавых гвоздях и стала отделяться от доски. «Ну вот, все сговорились», — злобно пробормотал он. Дверь смеялась над ним всеми своими сморщенными окаменелыми потеками, оставшимися от давних покрасок. За дверью, в неведомой глубине гудел неблаговоспитанным матом далекий голос Эдика Шереметева: завпост сожалел, что беглые абаканцы не прихватили вместо вонючих матрасов выдающиеся шубы царственной четы. Серый день вовсю разливался печалью и жалобами. Со всех сторон подавали голоса тазы, корыта и ведра, которые принимали на себя удар дружной весны. Самоваров послушал минутку Эдика и тазы, круто развернулся и пошел другим путем, к парадной лестнице. Пришлось миновать фойе. В ряду тамошних улыбок зияли целых три дыры — там, где были прежде портреты несчастной Тани и двух сегодняшних беглецов с матрасами. На сцене шла репетиция «Принцессы на горошине», Самоваров расслышал вдохновенные вскрики Шехтмана. Перекатывался матерый баритон вечно юного Геннаши. В пустых зрительских креслах кое-где сидели актеры, не занятые в сцене, а по фойе с сигареткой (Шехтман после болезни не терпел табачного дыма) прохаживалась Мариночка Андреева со своим бюстом и жилистыми ногами. Она устремила на Самоварова желтый, жестокий взгляд и весело окликнула: