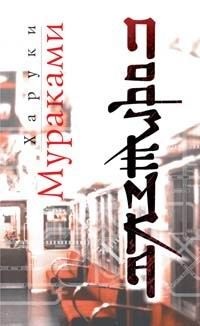Книга Аномалия Камлаева - Сергей Самсонов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Камлаев говорил себе, однако (а кое-что он в этом уже понимал), что музыка из всех искусств наименее привязана к современности и наименее зависит от нее, почти никогда не совпадая по духу с настоящим временем. Об этом можно было с уверенностью судить, взглянув хоть сколь-нибудь внимательно на любую произвольно выбранную эпоху: внемузыкальная действительность делала огромный качественный скачок — Робеспьера волокли на гильотину, башмаки якобинцев чавкали в крови, — а старомодно-жеманная музыка по-прежнему топталась на месте, несмотря на то, что ее куртуазная манерность, сладкогласность вопиющим образом диссонировали кровопролитной эпохе. А бывало наоборот: тишь да гладь да божья благодать, неспешно гуляющие буржуа, кафешантаны, а музыка вдруг взорвется ни с того ни с сего атональной революцией, «проклятым модернизмом», тотальной зарегулированностью в организации звукового материала, додекафонным законом, по которому все 12 звуков должны непременно стать материалом для темы, причем выступить в строгой последовательности, ни разу не повторившись в серии и каждый прозвучав по единственному разу. И за 10, за 20, за 30 лет до чеканящих шаг чистокровных арийских колонн, до Освенцима и Дахау уже развертывалась в музыке опережающая «свое время» вакханалия и раздавался в ней скрежет зубовный тысяч украинских, польских, еврейских, белорусских мучеников. Музыкальное творение могло в равной степени быть и вопиющим архаизмом, и устремленным в будущее грозным пророчеством; порой же, казалось, безнадежно устаревший способ организации звуков вдруг обретал чудовищную актуальность: так звук иерихонских труб не может устареть, поскольку не могут устареть и сами обреченные на разрушение иерихоны.
То, какую технику Матвей изберет, какой личный стиль изобретет, наименее всего зависело от смены идейных ветров и от стадии строительства вавилонской башни, которую героический советский народ возводил в течение последних десятилетий. Камлаев, разумеется, не собирался откликаться ликующей симфонией на объявленный правительством внеочередной прорыв в «светлое будущее». Не имел намерений приравнивать музыку к штыку и слову. Он вообще не собирался что-либо выражать.
В одном из старых номеров «Музыкальной культуры» (за 1928 год), раскопанных Матвеем в архивной пыли, попалась ему на глаза прелюбопытная до кощунственности статья Сабанеева. «Музыка идей не выражает» — фразу эту Камлаев подчеркнул дважды, а на полях еще и «sic!» приписал. «Музыка — замкнутый мир, из которого прорыв в логику и идеологию обычную совершается только насильственным и искусственным путем». Так, и еще раз так. Его волнует только то, что происходит в музыке и с музыкой. Метаморфозы гармонии. А как на это откликнется, отреагирует действительность, не его забота.
В мире слишком долго действовали безлично справедливые законы — к примеру, закон «высшей расы», повелевающий истреблять зловредных славян и евреев, закон непримиримой классовой борьбы, который обернулся братоубийственной бойней, законы купли-продажи, от которых тоже не жди ничего хорошего, потому что они рассчитаны на нестерпимо средний уровень потребностей и сознания. Возможно, и не так долго действовали они в сравнении со всем остальным временем человеческой истории, но короткая их работа была подобна воздействию серной кислоты, разрастанию раковой опухоли и имела разрушительные последствия. Нельзя было с достоверностью сказать, когда именно, с чего начался этот процесс и когда он и чем закончится. С уверенностью можно говорить об одном: музыкальная гармония в баховском смысле уже невозможна. Невозможна вера в изначальную и предусмотренную свыше справедливость мироздания. (Справедливость являлась теперь лишь причинно-следственной связью между выстрелом в затылок и тупым, деревянным стуком от падения бездыханного тела. Между наркотически-неотвязной потребностью завладеть как можно большим количеством бесполезных вещей и неслабеющей готовностью человека унижаться — унижаться на тупой, бездарной и бессмысленной работе.) Невозможно делать музыку в прежнем духе. Невозможно создать новую красоту, невозможно утешиться старой. Концертируя, Камлаев это испытал сполна: только ловкость и сноровистость была востребована, лишь виртуозность внятна и воспринимаема, только первенство и превосходство расценивались как товар. Виртуозность его ценилась подобно предпринимательской оборотистости. Нужна была новая гармония, возможно, и опровергающая, уничтожающая старую. Нужно было сказать гармонии «нет», чтобы понять, куда двигаться дальше.
И потому «Полифоническая симфония» двадцатилетнего Камлаева конвульсивно подергивалась и скрежетала, хрипела и задыхалась. За первыми трубными возгласами-раскатами, разорвавшими благостную тишину, последовали острые, отрывистые выдохи опущенных в самый низкий регистр духовых, выдохи столь частые и краткие, что в каждой паузе между ними звучало как будто предсмертное удушье. И вот уже фортепьяно, на котором Камлаев звенел последними правыми клавишами, немилосердно вбрасывало в раздувшиеся жабры-паузы стеклянные кластеры диссонансов, и будто от сильнейшей детонации раскалывалась стеклянная пустота неживого, необитаемого, «всегда смеющегося» небосвода. И вот уже конвульсивные выдохи духовых и методичные повторы пересыпающихся кластеров опознавались как устрашающе мерная поступь какой-то зловещей, вражеской силы; сознание тут, восприняв методичную поступь на слух, угодливо подбрасывало соответствующие картины — бесноватого фюрера, шествия с факелами, марширующие колонны безупречно вымуштрованных убийц, полыхающие селенья и железные стаи «Юнкерсов», от которых темнело небо. Но вдруг вступали струнные, и вся эта сила обращалась в высокое и чистое рыдание, настолько ломкое и острое (будто режущее бритвой), что вы просто не могли его выносить. Пространство бесконечно раздвигалось в высоту, рыдание достигало убийственной интенсивности, какую только может снести человеческий слух, но и слух открывал для себя как будто все новые и новые возможности, все «выше, и выше, и выше» задирая болевой порог, и так до той поры, пока не обнаружишь, что никакой невыносимости в помине больше нет. Слух, опущенный в этот едкий, всеразъедающий раствор, со всем свыкался. А Камлаев пускал целый мир на раскол — стекло небосвода продолжало ломаться, крошиться и сыпаться; невесть откуда взявшаяся трепещущая мелодия, едва не оборвавшись, взмывала в несколько косых, уродливых рывков и будто тупой ножовкой распиливала вышину — вызывая отвращение, похожее на наслаждение. Происходило невозможное: то, что казалось оскорбительным, душеубийственным, не утратив своей оскорбительности, вдруг вызывало привыкание, и вот уже слух и мягчился, и нежился, и вольготно обитал в прерывистой остроте металлических ударов, в уродливых взмывах струнных и выдохах пикколо-флейт… и вот уже тебе не хочется, чтобы это прекратилось… ты хочешь, чтобы это продолжалось и продолжалось, хочешь раствориться в этом мировом уродстве и становишься неотделимой частью его… Хрип и визг переходили в бескрайний гул, гул затухал, и в обнажившейся, бесстыдно оголенной тишине ты все никак не мог понять — кто же ты теперь, на выходе из этого предсмертно хрипящего потока.
Готовую партитуру своей «Полифонической» Камлаев ничтоже сумняшеся выложил на стол своего наставника, профессора Бабаевского, и на следующий день получил экстравагантнейшую «двойку» по композиции. Консерватория загудела как разбуженный улей.