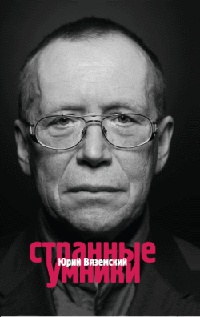Книга Бэстолочь - Юрий Вяземский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Все он прекрасно слышал, – возразил Дмитрий Андреевич. – А на следующий день устроил своим работягам разнос. Зиленский, который жил рядом со стройкой, рассказывал нам, что целую неделю рабочие разбирали завалы на стройплощадке, спасали те материалы, которые еще можно было спасти: сортировали и укладывали кирпич, сооружали навес над мешками с цементом, собирали кафельные плитки, выковыривая их из машинной колеи. В общем, задал он им работы, а сам ходил злой, с багровым лицом, все время озирался по сторонам и кричал: «Никому не позволю так обращаться с государственным добром!»
– Простите, конечно, Дмитрий Андреевич, – опять не удержался я, – но ваши методы воздействия… Вы же явно нарушали закон! Вас запросто могли посадить за хулиганство и порчу личного имущества.
– Запросто! – радостно согласился со мной Мезенцев. – Зиленский, между прочим, указывал на это Тому. Тот по своему обыкновению несколько раз пропустил его замечание мимо ушей, а один раз вдруг взорвался, залез на эстрадку да как заорет на нас:
– А я вам, значит, никогда не говорил, что у нас – благотворительное общество, пикетик для девочек-десятиклассниц с красными повязочками и белыми бантами на головках! Да, мы самая настоящая банда! Не можем мы с вами действовать, так сказать, в рамках закона хотя бы потому, что против наших врагов закон бессилен. Нужно установить новый закон, который раз и навсегда запретит хамам и бездельникам издеваться над людьми, над их трудом, над их, понимаете ли, совестью честных тружеников! Рано или поздно такой закон будет установлен, обязательно, но пока его нет, мы сами будем устанавливать его. Закон нашего гневного возмущения!
– Он был безумен, этот Том, – вдруг с ласковой улыбкой заключил Дмитрий Андреевич. – Представляете себе, он занялся нашим культурным воспитанием!.. Ежедневных спортивных разминок ему показалось мало, и он объявил, что раз в неделю мы будем повышать культурный уровень, то есть в соответствии с разработанным им графиком станем посещать картинную галерею, филармонию, театры и тому подобное. Без этого, по его мнению, нельзя бороться с хамством.
Разумеется, – продолжал Мезенцев, – его идея поначалу показалась нам с Зиленским смешной. Вопервых, согласитесь, странное сочетание: утром за ручку шествовать в музей повышать культурный уровень, а вечером, натянув на голову капроновый чулок… А во-вторых, ей-богу, кому угодно, но не Тому было повышать нашу культуру! Он, к примеру, уверял нас, что Эрмитаж – это бывшая летняя резиденция царя под Петербургом. Зиленский, понятно, не удержался и тут же заявил бедняге: «Для того чтобы повышать чужой культурный уровень, надо иметь хотя бы некоторое подобие своего собственного. Это вам, сударь, не алкоголиков к столбам привязывать!» Но Том на него не обиделся и на идее своей настоял; он был из тех людей, которые, вознамерившись что-либо совершить, никогда от намерения своего не отступятся и осуществят его во что бы то ни стало… Начали мы с городской картинной галереи. Мы с Зиленским, воспитанные родителями на Эрмитаже и Третьяковке, ни разу там не были, весьма скептически относясь к нашей местной художественной достопримечательности. А в итоге получили большое удовольствие, обнаружили неизвестные нам полотна Репина, Левитана, Маковского, Шишкина, к тому же прослушали любопытную лекцию о русских живописцах, прочитанную нам Зиленским. Около трех часов водил он нас от картины к картине, рассказывая об их авторах массу увлекательных вещей, о которых я, считавший себя тогда ценителем живописи, никогда не слышал и нигде не читал… В дальнейшем Том распределил между нами обязанности: отныне Зиленский отвечал за изобразительное искусство, Стасу, учитывая его музыкальное образование, была доверена музыка, а мне достались театры и кинопрокат. Культурный потенциал нашего города был, увы, слабоват для Томова размаха, но к нам в то время часто экспортировали культуру из других городов: приезжали на гастроли знаменитые театры, регулярно наведывались столичные оркестры и исполнители, организовывались выставки привозных шедевров… Тогда еще можно было при желании попасть на любую знаменитость, на любую интересную гастроль.
Только, ради бога, не надо мне ничего доказывать! Я все без вас знаю! – предостерегающе поднял руку Мезенцев. От чего он хотел меня предостеречь, я так и не понял, а Дмитрий Андреевич вдруг с раздражением на меня набросился: – Да поймите вы, тогда считалось высшим шиком без билета прорваться в театр или в филармонию и усесться в партере на глазах у билетерш! Тогда этим похвалялись друг перед другом!
А попробуйте-ка представить себе нынешних студентов, которые, собравшись на пустой квартире – то есть без пап, без мам и прочих посторонних глаз, – попивают чаек с клубничным вареньем и до утра играют в шарады или в фанты… Да ну вас, ейбогу!
Я не мог согласиться с Дмитрием Андреевичем и, едва тот умолк, возразил:
– Мне кажется, вы несправедливы к современной молодежи. Боюсь, что вы судите о ней по самым неудавшимся и нетипичным ее представителям.
Тут Мезенцев неожиданно переменил тему.
– Пожалуй, вы правы, и я действительно не знаю современную молодежь. Вы не представляете, какую однообразную и духовно ограниченную жизнь я веду. Кроме своей работы, я ничего не вижу, не знаю и ничем не интересуюсь. Тружусь с утра до ночи, и вовсе не потому, что так уж увлечен работой, а часто потому, что не умею придумать себе иного занятия.
Своим странным признанием Дмитрий Андреевич напомнил мне о моих рабочих обязанностях. Поэтому я как бы ненароком распахнул блокнот и как бы машинально подчеркнул в нем первую фразу. «Попросить рассказать об „альтруизме“ у крыс».
– Точно, мы ехали в театр! – вдруг воскликнул Мезенцев и схватил меня за руку. – Тут-то и произошла сцена, которая, как мне представляется, кое-что проясняет в личности Тома… Да-да, в трамвае, и в театр, – рассеянно повторил Дмитрий Андреевич, выпустил мою руку, ненадолго задумался, потом продолжал: – Короче, в этом трамвае, в котором мы куда-то ехали все четверо, двое малолетних хамов, лет так по семнадцати, нагрубили пожилой женщине. Она попросила у одного из парней, развалившихся на сиденье, уступить ей место; именно попросила, вежливо, без нравоучений. Но хамство и грубость, видимо, были привычной стихией парней, так как они места женщине не уступили, а принялись огрызаться… Все разворачивалось так стремительно, что я не сразу сориентировался в происходящем. Трамвай вдруг резко затормозил, и пассажиры повалились друг на друга. Я тоже упал на какую-то гражданку, принялся перед ней извиняться, а когда извинился и снова занял вертикальное положение, увидел, что Том, несколько секунд до этого стоявший рядом со мной, теперь барабанит кулаком в дверь на другом конце трамвая. Водитель открыл двери, и Том выпрыгнул из трамвая, выволакивая за собой одного из парней, которого женщина первым попросила уступить место. Переведя парня через дорогу, Том развернул его к себе лицом и на глазах у всего трамвая принялся избивать его самым натуральным образом. От каждого удара парень падал, но Том поднимал его и снова одним ударом валил с ног. Мальчишка был на голову выше Тома, но после первого удара сопротивления не оказывал… Я никогда не видел Тома в таком состоянии. У него был вид человека, который, глубоко задумавшись, рубит дрова. Наклонится, поставит полено, машинально рубанет по нему, снова нагнется, нащупает рукой новое полено, машинально поставит перед собой и снова машинально рубанет топором… Не подоспей мы вовремя, я думаю, он бы изувечил беднягу. Но Стас подхватил Тома поперек туловища и скрылся в подворотне. Надо было, что называется, уносить ноги. Хоть все пассажиры были возмущены поведением грубиянов, едва ли зверская расправа, учиненная над одним из них Томом, могла оставить безучастными даже самых жестокосердных свидетелей. Да и трамвай останавливать на полном ходу стоп-краном, насколько мне известно, не рекомендуется.