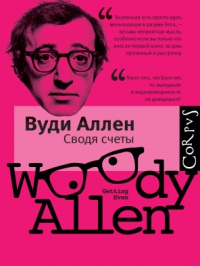Книга Мордовский марафон - Эдуард Кузнецов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
За низовых-то патриотов, всякой директиве рявкающих «ура», переживать не стоит. Им прикажи понимать под благом отечества умение расторопно вязать и сажать — отца родного увяжут и упрячут, а объяви, что таперича воля вольная, они хоть и сморщатся, а все же «ура» прокричат, потому как начальству завсегда виднее… За них можно не переживать, они в случае чего приспособятся, они на вверенном их попечению участке и на самую свободную свободу (ежели таковая приключится) такой хомут соорудят, да такие оглобли ей пристроят, да так вальяжно рассядутся в мягких розвальнях, что только диву дашься. А вот тем, что повыше, — тем, конечно, боязно: уж ежели случится им сверзиться — то в лепешку! А кому охота в лепешку-то!
…Путаная нить моих рассуждений была счастливо прервана визгом одного из тех, кто все свое время проводит, вися на оконной решетке: «Кино принесли!» Редчайшая удача: вместо типовой политико-воспитательной дребедени документальная лента о студенческом движении на Западе. Какие лица, Боже мой, какие свободные лица сияли мне с экрана, махали кулаками, гримасничали от боли, ненависти, отчаяния и счастья! Из нашего смирного райского далека порой кажется, что не столь уж важно, правы они на самом деле или нет, важна нездешняя осиянность их лиц поиском правоты, важны те чувства, которые вытолкнули их на улицу. Я вспомнил Москву и попытался представить себе ее улицы затопленными волнами взъерошенной молодежи… Что-то такое вроде бы было… Не очень, правда, молодежное, да и в лицах как-то нет того, если и веселость, то упорядоченная бодрыми маршевыми ритмами, если и буйное неистовство, то с запахом самогонного перегара…
Ба! Да это и не волны вовсе, а стройные колонны демонстрантов, это и не лица вовсе, а ритуальные маски «праздника трудящихся», это и не люди совсем, а веселящиеся — в установленный начальством день — производственники!
Глядя на экран, я вспомнил надутую серьезность физиономий моих былых сокурсников — все свободолюбие самых строптивых из них сводилось к поискам возможности поскорей пережевать обязательную идеологическую жвачку, чтобы после экзаменов выплюнуть ее и забыть навсегда. Шестидесятые годы. Кампусы западных университетов бурлят, на Востоке — тишь, да гладь, да Божья благодать. Неужели вам все ясно, неужели нет у вас вопросов, от которых побледнели бы профессора, неужели вам хватает стипендии, неужто вы от всего в восторге? Так чего же вы так скучно молчите или невразумительно бубните затверженные мудрости? Гляньте на своих сверстников! Лучше юношеский инфантилизм мятежных метаний со всеми их крайностями, чем маразматически смиренное приятие декретированных учебной программой истин. Ищущий да обрящет, чтобы искать снова — дальше и глубже! О, как сияет твое лицо, падающий и встающий! Покорный миру сему, мнящий себя обретшим и имущим, отчего так сер лик твой, почему зловонно дыхание твое? Будь ты проклят, довольный и тихий, буйствующий только в подпитии.
Стоп — кричат: «Приготовиться к отбою!» Извини мне этот всплеск эмоций, вряд ли мне сегодня уснуть. До свидания, милая. До завтрашнего вечера.
А из Саранска ты мое письмо получила? Я его отправил, кажется, 4 июля, а на другой день ко мне в камеру перевели Юру и Бориса. Почти двое суток мы мололи языками без передыху. А какой, если бы ты знала, чудесный ужин мы закатили на прощанье! Мы пронюхали, что в четверг нас с Юрой увезут, и накануне развили бешеную энергию, чтобы именно в этот день реализовать положенные нам милосердным законом ежемесячные четыре рубля. Мы не виделись с Борисом с самого суда (то есть почти шесть лет) и, побыв вместе пару дней, опять расставались на… сколько лет?
До арестантской расчетливости ли нам, расчетливости, которая вынуждает иных вместо сала получать в ежегодной посылке черные сухари… чтобы подольше их жевать. Мы заказали помидоров и огурцов, луку, сто граммов сметаны и две булки белого хлеба, угробив все свои трудовые двенадцать рублей. Но зато!.. Я ведь в последний-то раз ел помидоры да огурцы в 1974 году. А тут еще и свет погас, и нам внесли в камеру свечу. От винегрета мы размякли и во всей подлунной не было в тот вечер людей остроумней, добрей и счастливей нас троих. Борис, как истый художник, все порывался запечатлеть нашу с Юрой полосатость, особо, по его словам, колоритную при свете свечи. Но карандаш и колорит не очень-то сопрягаются, к тому же всякий портрет заключенного — крамола, подлежащая изъятию и уничтожению. У каждого свой основной символ свободы. Для меня — возможность читать любые книги, для Бориса — наконец-то иметь краски.
В общем, эту поездку, в отличие от предыдущих, можно считать везением. Месяц безделья, относительно приличного питания и смакования Салтыкова-Щедрина (из разрозненных томов которого и состоит практически вся читабельная часть тамошней библиотеки). Да еще чайком удалось запастись, да третье, да десятое… Кабы не изнурительная нервотрепка так называемых «профилактических бесед», подтекст которых не всегда поддается расшифровке и потому гнетет. Были времена, когда зэка мог отсидеть свои законные 10–20 лет, так и не встретившись нос к носу с голубыми Песталоцци, и все его перевоспитание сводилось к каторжному труду, голоду, холоду, побоям. Нынче мы наперечет и всяк на виду. Нас просвечивают насквозь, полковники и генералы не брезгают знать все наши свычаи-обычаи, всех наших друзей-недругов, все наши планы-мечты, радости и страхи… А я не хочу быть прозрачным глазу власть имущих. Не потому, что напичкан какими-то там особыми тайнами (от криминальных до сексопатологических), обнаружение которых опасно и позорно, а прежде всего потому, что этому судорожно противится мое человеческое естество. Когда в душу пытаются заглянуть, как в стеклянный аквариум (с абсолютным правом подкормить ли рыбок… для завтрашнего ужина, отравить ли или просто наплевать в воду), я чувствую себя испоганенным, как чувствуешь себя испоганенным, когда на втором месяце голодовки «кормят» реr аnum — кабы не наручники, скинул бы с себя обоих «кормильцев» и глотку им перегрыз…
Впрочем, месяц канту в обмен на 3–4 кабинетных раунда — еще куда ни шло. Да плюс этап. Но более всего я, конечно, рад встрече с Борисом…
Неужели мои письма столь безудержно бодры, что им легко не верить? Какая такая особая в них бодрость? Откуда бы ей завестись? Очевидно, это впечатление — следствие разницы отношений, установок, восприятий, несовпадения систем отсчета: что одному норма, то другому — сплошь патология, что одному удача, другому кажется еще одним свидетельством повседневного кошмара. Помнишь, какой удачливый день выдался у Ивана Денисовича — и миску-то с баландой он закосил, и в карцер не попал?.. А со стороны это разве не сплошь кошмар? Но чтобы выжить, надо отучаться смотреть на себя со стороны. Сегодня здоров? — Более или менее. Письма доходят? — Так-сяк. Как с чтивом? — Гм… бывало и хуже. Ну и т. д. А уж если чуть-чуть за себя постоять удастся, какую-то мелочишку отвоевать, не совсем бесплодно посопротивляться враждебным обстоятельствам (тем, что в погонах), то и вовсе, бывает, приободришься, зауважаешь себя. Ведь даже когда какой-нибудь доходяга-уголовник, беззубый и истрепанный жизнью до безобразия, хрипит, жалуясь: «Эх, жизнь наша каторжная — носим ношеное, едим брошенное!» (на воле, пока его еще не поймали в очередной раз в чужой квартире или просто на чердаке, он выкрикивает другой вариант этой жалобы: «Носим ношеное, е…ем брошенное»), в этом стоне легко расслышать нотки гордости и вызова: все равно, несмотря ни на что, и мы люди-человеки, да еще почище некоторых, которые сплошь рабы или надсмотрщики.