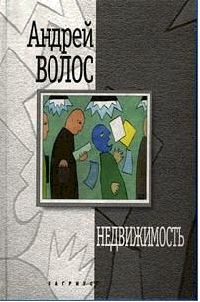Книга Хуррамабад - Андрей Волос
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Еще чуть-чуть! — крикнул Низом.
Дом Ибода был виден как на ладони. Колесо остановилось.
— Так, — сказал Низом. — Ты понял, Фарух?
Фарух смотрел на часы.
— Да, я понял: четыре минуты, — ответил Фарух. — Ерунда: за четыре минуты они не очухаются.
Низом хмыкнул.
— Твоими устами мед пить. Сейчас проверим. Ох, дадут они нам прикурить…
Он положил ствол гранатомета на железный край люльки.
— Вторую готовь, — сказал он, щурясь.
Прицел рассек крестом правое окно. Граната бабахнула и пошла, и он еще не дождался вспышки, грохота и пламени в черном отверстии окна, а уже протянул руку, и Фарух сунул ему вторую. Ба-бах! Колесо дернулось, и люлька стала быстро опускаться. По ним не стреляли. Через двадцать минут Низом доложил о выполнении.
— Молодец, молодец, — сухо сказал Мирзо. — Да только его там не было, падарланат!.. Будем разворачиваться!
Ах, неловко все вышло! Ибод опять выкрутился… Больше суток Мирзо долбил его банду, засевшую на хлопкозаводе, попутно нанося невосполнимый ущерб производству. И снова не успели дожать: помешал Негматуллаев. Подтянул бригаду, навалился, чем мог…
Низом бросил окурок в снег и сплюнул.
Ветер шумел, с натугой тянул низкие тучи… Погодка.
Он проверил посты, распорядился насчет лошадей, отправил ребят на смену Ибрагиму. Он старался не думать о приказе командира. Что толку думать о приказе? — приказ есть приказ. Черт бы их всех побрал… Глупое, глупое дело. Тут так: или да, или нет. Даст Негматуллаев слабину — хорошо. Хорошо бы…
Он постоял на крыльце, прислушиваясь. Нет, нет… Ветер, ветер тянул над ущельем снежные тучи, и низким протяжным гулом отзывались ему заросли арчи.
4
До рассвета оставалось недолго.
С перевала стекали черные облака; они струились вниз по ущелью, наползали на скалы, на скользкие пятна мокрой глины. Достигнув кишлака, мягко ложились на крыши приземистых кибиток. Голые деревья путались в них ветвями.
За саманной стеной большими влажными хлопьями падал снег. С крыши капало.
Ивачев слышал сквозь сон и эту капель, и шорох снега, и поднявшийся под утро ветер. Между зрачками и веками колебалась темная кисея, по ней пробегали бледные сполохи… мелькали чьи-то лица, фигуры… а капель и рокочущий шум ветра превращались в неразборчивые слова, и он морщился во сне, силясь понять их смысл.
Когда он проваливался глубже, над головой смыкалась тьма, все пропадало — голоса, лица, капель, ветер… Но потом его снова встряхивала крупная собачья дрожь, и он выныривал, понимая, что ему холодно… что нужно встать… Однако черная кисея прилипала к самым зрачкам… поднять веки не было никакой возможности, и он только ежился, пытаясь угреться под армейским ватником, — да ничего не выходило, потому что лежал он на тонкой курпаче, а от глиняного пола несло лютым холодом.
Одна тень меняла другую, и он не знал, спит или бодрствует, но казалось — что бодрствует. Он ясно видел сощуренные глаза Низома-постника; слышал, как тот распахивает дверь и ставит бадью с водой.
— Какой тебе еще командир?! Молчи, блад! Командир! Как дам один раз по башке, будешь знать командир… Вертолета ждем! Прилетит вертолет — все будет! Погода, блад, опять плохой. Опять, блад, погода нелетный… Какой закон? Так не говори! Закон придумали бобры! — сказал Низом-постник, страшно щурясь ему в глаза. — Бобры, блад! Богатые, блад! У кого бабок много, вот какие бобры! Чтоб себе удобно было. Чтобы бабок много. Кто у закона стоит, тот такой закон придумывает, чтобы бабок наворовать. Разве не так? — Он вытер кулаком нос и презрительно рассмеялся. — Они, блад, бобры, блад. Народ мучают, блад. Они, блад, бобры, блад, а я за них опять воевать буду?! Хватит. Я все понял. Я пять лет воюю. Мне уже все равно, блад… Я жрать должен, нет? Детей кормить должен, нет? Кто плотит, там и воюю. Талибаны плотят — к талибанам пойду. Кто заплотит чуть больше деньги — туда и пойду. Разницы нету, блад. Если не у Черного Мирзо, тогда у другого. Любой группировка-шмупировка если деньги дает, могу на все идти… Например, если враги-мраги там много у тебя — бабки заплати, пойдем, на хер, разберемся… Да хоть с самим Черным Мирзо — плати бабки, пойдем, на хер, разберемся…
Низом замолчал, лукаво и приглашающе улыбаясь, потом задрал полу плащ-палатки, вынул из кармана узкий полиэтиленовый пакетик с насвоем. Автомат смотрел стволом в сторону. У Ивачева стукнуло и зачастило сердце. Ишь, какой он нынче разговорчивый! Если б его заговорить вот так, заговорить… кинуться врасплох, свалить на землю… автомат отобрать… Низом вытряс толику насвоя на ладонь и вдруг цепко посмотрел на Ивачева прищуренными своими желто-карими глазами, словно оценивая его силы. Ловко бросил насвой под язык, почмокал, потом сказал гугняво:
— Автомат! Ишь!.. Смотри у меня! Как дам один раз по башке!..
И растворился, смеясь.
Тени, тени блуждали между глазными яблоками и веками, и он видел то, что было на самом деле или только могло быть. В его мозгу жизнь текла быстрее, чем в действительности, но не всегда правильно. Он не умел драться ни в детстве, ни в юности, потому что, когда речь только заходила о драке, когда все еще только осмысляли ее возможность и последствия, он многократно переживал ее от начала до конца и знал уже и горечь поражения, и сладость победы, и гадкий вкус предательства, и терпкую сухость решимости. Драка порохом сгорала у него в мозгу, опаляя воображение, и когда наконец наступала пора и в самом деле махать кулаками, Ивачев был уже совершенно измотан и опустошен…
Он снова проваливался и тогда видел себя со стороны — будто поднимаясь над самим собой все выше и выше, к низким облакам и снегу, а потом сквозь них, за них — к черно-фиолетовому небу, к звездам, ослепительно ярким на западе и уже бледнеющим на востоке. Превратившись в неразличимую для самого себя теплую точку, он спал, корчась под бушлатом на ветхой подстилке, а между тем и подстилка, и бушлат, и кибитка, и облака, и перевал, и ветер, и капель, и каждая снежинка, метавшаяся над черными камнями в диких завихрениях ветра, — все они летели, уносимые телом Земли, в кромешно звездном, безжизненном пространстве, наводненном пустотой и страхом: летели в бесконечную тьму… Он сам, Низом-постник, Черный Мирзо, генерал Негматуллаев, какой-то Фарход Чой-канши, хлопья снега, кибитки, кишлаки… бессчетные горы… считанные дороги, кое-где змеящиеся вдоль рек, прорубивших себе путь между горами… — все это неслось в безжизненном космосе: стремительно летело куда-то во мрак, мельчало, удаляясь, становилось светлым пятном, пятнышком, неразличимой искрой…
— Что? — Ивачев сел. Ватник свалился с плеч. Плеснуло холодом. — А?
Было тихо. Гудел ветер, шуршал снег. С крыши падали капли.
— Я говорю, часового нет, — негромко сказал Саркисов.
Он стоял на коленях возле двери.
Ежась, Ивачев надел ватник в рукава. Пошарил в кармане. В мятой пачке осталось несколько бычков. Он нащупал какой подлиннее, сунул в рот, щелкнул зажигалкой. Жадно затянулся дымом.