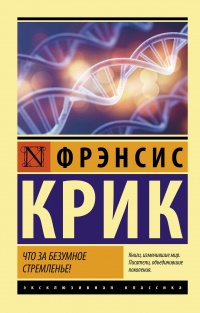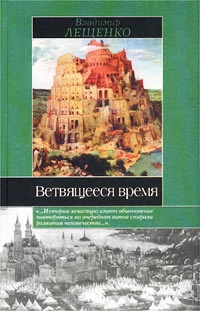Книга Крик коростеля - Владимир Анисимович Колыхалов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Понравился? — спросила Клавдия Федоровна.
— Не шибко. Наивно немного. В жизни так не бывает.
— Откуда знаешь?..
— Из наблюдений…
Он прошелся по комнате, сел опять на диван. Уложив дочку спать, Клавдия Федоровна принялась вязать.
— Сегодня ко мне на работе один человек подмазывался, — сказал Погорельцев. — Хочет найти во мне левака.
— А ты раньше левачил когда-нибудь?
— Нет.
Зазвонил телефон.
— Алло! Да, это я, дружище! Да, вот такая история… Что, ты знаешь Мышковского? Скользкий тип? Ну, похоже, похоже… Сразу берет быка за рога. Мы, говорит, пригодимся друг другу!.. Еще бы! Конечно, подумаю…
За спиной Погорельцева стояла Клавдия Федоровна. Глаза большие, расширенные, в них что-то смутное, тревожное.
— Сербины тебе кланяются. — Сергей Васильевич подмигнул жене. — Старомодно, а так приятно — кланяются!
— Это Мышковский подмазывался к… — Она осеклась.
— Он самый. Ну и нюх у тебя: с ходу сечешь.
— Голова разболелась что-то. Пойду я спать. Спокойной ночи…
— Спокойной. Мне спать неохота. Что-нибудь почитаю…
Погорельцев затворил дверь в гостиную, постелил себе на диване и придвинул торшер к изголовью поближе.
3
Не читалось. Отложил книгу, погасил свет. В мыслях «проигрывался» прожитый день, его взаимоотношения с женой. Вот пошла спать первая и даже щекой к нему не прижалась. Татьяна Максимовна, покойница, бывало, ласковой кошкой терлась, а эта скупа на нежности. Иссушили ее недуги, плоть и душу изъели. В первые годы их совместной жизни добрее была, а теперь чем дальше, тем холоднее. Думать так думалось Погорельцеву, но укорять он не укорял, не давал себе воли. Молчалив, терпелив, и дочка дни ему скрашивает. Она будет не в мать. С ней поиграешь, спать отнесешь — она ухватит тебя за шею ручонками и скажет:
— Папа, давай обцелуемся!
И тает от таких слов сердце у Сергея Васильевича, растекается по всему телу приятный жар, томящий. Оленька — слабость его. Когда они остаются вдвоем, отцу с ней не скучно. Помнит, как держал он ее двухлетнюю на руках, стоял у распахнутого окошка. В ограде листвой шумели молодые березки, птахи чирикали, и послышался вдруг плач ребенка. И Оленька, кроха такая, пролепетала:
— Обидели…
— Пожалела? — спросил изумленный отец. — Ах ты славная! Души у нас с тобой одинаково скроены…
Когда Погорельцев уснул, Клавдия Федоровна встала, распахнула на кухне форточку, из настенного шкафа достала флакончик пустырника, накапала тридцать слезинок и выпила. В груди сжимало, она чувствовала, как трудно перегоняется кровь, как сбивается с ритма сердце. Давно так не прыгало давление… Пойти лечь на спину и постараться уснуть.
Но сон к ней не шел. И она знала, что не уснет сегодня, будет перебирать в памяти прошлое, от которого не уйти. А прошло уже столько лет!.. Почти семнадцать…
Нежданно-негаданно взбудоражил ее сегодня супруг, произнеся в разговоре по телефону с Сербиным фамилию Мышковского. Интересно, как бы отнесся Погорельцев к тому, что Мышковские родом из той же деревни на Чулыме, откуда она сама, что младший брат Бориса Амосовича Денис поступил с ней когда-то подло, попросту говоря — обманул. Она помнит, как это случилось. Знала она и то, что Борис Амосович в городе, преподает, в кандидаты наук вышел. О Денисе слышала, что тот высоко не поднялся, только перекочевал из деревни в райцентровский поселок Пышкино, заделался егерем. Леса по Чулыму не все еще вырубили, есть где ягоду взять, кедровый орех и зверя…
Незадолго перед свадьбой Клавдия Федоровна пошла на базар кое-что закупить. Неторопливо обходила ряды и услышала, что ее окликают. Повернулась на голос — батюшки! У большого куля с кедровым орехом стояла квадратная, приземистая фигура Дениса Мышковского.
— Что вы тут делаете? — сорвался у нее с языка глупый вопрос.
— Орешками вот торгую. Каленые, пышкинские! Подходи — одарю!
Внешне Денис изменился мало, разве что погрузнел. Те же мясистые щеки, тот же нависающий лоб. И скулы блестят, будто их выжгли из глины и смазали маслом. Ни дать, ни взять — гончарного производства лик! Глаза запавшие, маленькие, сбегаются к переносью и странно дрожат. Прежде взгляд его ей казался орлиным.
— Мне ваших товаров не нужно, — как можно спокойнее сказала она.
— Да ты погоди спешить, Клава! Как она, жизнь-то, скачет? Все ж таки мы земляки.
Слабая краснота проступила на щеках Клавдии Федоровны. Его же лицо — багрянилось, взгляд жадно ощупывал женщину.
— Не смотрите на меня так, — захлебнулась она от гнева. — И больше не окликайте, если увидите где!
На нее озирались люди. Чувствуя жар в голове и сильное биение сердца, Клавдия Федоровна ушла с базара, не докупив того, что ей требовалось.
Тогда она уже перебралась на квартиру Погорельцева. В тот день он был на работе и предупредил, что задержится допоздна из-за какого-то важного совещания. Она была рада, что сможет побыть одна, успокоиться. Ломило затылок, стучало в виски. Приняла свой любимый пустырник и прилегла на кровать. Противно, жестко! Никогда не знаешь, в какую минуту и где тряхнет тебя жизнь…
…А что за пора была на Чулыме в июле в тот год! Большая река текла в полной красе и силе. Широкие плесы, золотые пески, зелень по берегам, травы в цветении. В бор ли зайдешь, в луга ли, или выйдешь росным туманным утром в поле цветов нарвать — везде благодать и покой.
Часто тем летом на причулымскую землю падали грозы, молнии рассекали небо от зенита до горизонта. От грома, казалось, подпрыгивают и приседают дома, а над всей деревней, над лесами, рекой, лугами ветер прокатывал, проносил мощный гул. Вымытая, проветренная листва на кустах и деревьях, травы, еще не тронутые косарями, блестели после грозы на солнце таким чудным блеском, что хотелось погладить любой листочек, цветок.
Клаве еще оставался год до окончания медучилища. На каникулах в деревне ей было не скучно. Купалась, гуляла с подругами, читала, любила и посидеть одна на крутом чулымском яру, откуда так далеко просматривались окрестности. Носились по реке мотолодки, и самая быстрая, взмывающая из воды, была лодка Дениса Мышковского. Он летал на ней вверх и вниз, задавался перед пышкинскими девчатами. В тот год он как раз отслужил во внутренних войсках, находился где-то неподалеку отсюда, в Кузбассе, что ли. Тренированный, грудь выпирает из-под голубой тенниски, усы отпустил, лицо лоснится, глаза, сидящие глубоко, смотрят холодно и едуче. Такие глаза не ласкают, но чем-то притягивают, от взгляда их трудно отделаться — цепляются, держат, беспокоят. Улыбку Дениса теплой не назовешь: в ней тоже есть что-то едкое, горькое. А так сам по себе — молод,