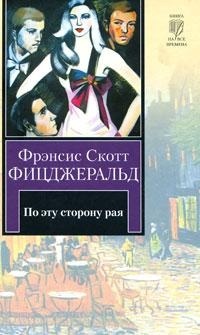Книга Один шаг - Георгий Васильевич Метельский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В назначенный день самолет не прилетел. Валя принесла новый прогноз, и опять синоптики предсказывали дожди и туманы.
Николай Николаевич не выдержал и перенес свой шатер на старое место, поближе к озеру.
За неотложными делами мы постепенно начали забывать о Лескове, было не до него: надвигалась зима, а предстояло еще закончить скважину, снять оборудование и переставить на тракторах гусеницы с обычных на более широкие — без этого по размокшей тундре не вернуться на базу, в маленький поселок на берегу Обской губы.
Но Лесков все же напомнил о себе. Случилось это, кажется, в седьмую или восьмую ночь. Ночь выдалась холодная. Легкий, сизый туман висел над озером, и через просветы в тучах то выглядывала, то пряталась луна. Ветер стих, и снова стало слышно далеко.
Помню, что я проснулся от ощущения, будто кто-то возится у полога палатки.
— Это ты, Ванька? — спросил я спросонья.
Послышалось сиплое человеческое дыхание, тяжелые осторожные шаги, чавканье болота, когда из него вытаскивают ноги. Я лежал, широко раскрыв глаза, не зная, что делать, будить Николая Григорьевича или нет.
Шаги торопливо удалялись. Я приподнял полог палатки и увидел Лескова. Он быстро шел в сторону своего жилья, ссутулившись и вобрав голову в плечи.
Что привело его в лагерь тайком, ночью — страх одиночества? Желание напакостить, отомстить?
Как это часто бывает в тундре, самолет прилетел неожиданно. У нас еще моросил дождь, а в Салехарде, наверное, развиднелось, и пилот получил «добро».
— Эй! — во весь голос крикнул Саня. — Глядите! Да не на небо, елки-палки, на Николая Второго!
Лесков выскочил из своего особняка и, задрав голову, стал смотреть в ту сторону, откуда доносился едва слышный покуда гул. На фоне мутного, холодного неба четко вырисовывалась его растерянная фигура в расхристанном кожухе и напяленной наспех кубанке.
Наверно, все свои пожитки он складывал каждое утро: скатывал и увязывал спальный мешок, выливал из примуса керосин в канистру, заворачивал в тряпку и совал в рюкзак вместе с котелком, чайником и миской. А потом тупо ждал много часов, не рискуя поставить на огонь обед, пока солнце не поворачивало на вечер и не становилось ясно, что самолет не прилетит и сегодня. И так каждое утро, одиннадцать дней подряд.
Очевидно, и нынче у него тоже все было подготовлено загодя, быть может, с серого рассвета, потому что, едва нырнув в палатку, он сразу же вылез оттуда с вещами.
Сначала он шел, правда, торопясь, но все же шел, соблюдал фасон, тяжело и неровно, с гороподобным рюкзаком и чемоданом, потом не выдержал и, размахивая свободной рукой, ошалело, неуклюже побежал к озеру, куда уже, свистя выпущенными тормозными щитками, быстро опускался самолет.
ПОВЕСТЬ О ЗАБЫТОМ МУЗЫКАНТЕ
Триптих
Сердце, открытое людям
Однажды летом, когда я закончил восьмой класс школы, мы с мамой первый раз поехали в Ленинград. Впервые после нашего деревянного одноэтажного городка я попал в огромный каменный лабиринт с каналами, дугами мостов, памятниками и дворцами. У нас было мало денег и поэтому очень немного времени, и мы, чтобы успеть все посмотреть, с утра и до вечера, до белых, прозрачных ночей, ходили по музеям, соборам, садам и паркам.
Так мы попали в строгое здание архитектора Росси, в бесконечные залы, населенные картинами великих русских мастеров. Ошалелые и усталые от впечатлений, мы добрались наконец до репинского зала — до грандиозного «Государственного совета», «Бурлаков на Волге» и «Запорожцев», которые, хохоча, писали ответ турецкому султану.
«Запорожцы» занимали целую стену. Когда мы стояли перед этой картиной, мама сказала шепотом:
— Видишь, справа. Казак в барашковой шапке и красном жупане. Репин рисовал его с Александра Ивановича Рубца. А могила Рубца — напротив нашего дома в ограде Вознесенской церкви.
Помню, меня поразило тогда, что на такой знаменитой картине (в ту пору я увлекался собиранием открыток и немного понимал, что к чему) нарисован человек, которого знали в нашей семье и который жил в маленьком, мало кому известном городке, лежавшем на окраине Брянских лесов, воспетых писателем Загоскиным.
Воротясь из Ленинграда домой, в Стародуб, я пошел на цвинтарь, — так в наших краях называют место между церковью и оградой. Там, под старыми кленами, высился черный мраморный памятник, могильный холмик, а на нем плита с надписью: «Профессор Петербургской консерватории Александр Иванович Рубец. 1837–1913».
Я тут же подсчитал, что маминому знакомому было семьдесят шесть лет, когда он умер. Это мне показалось слишком долгим. В то время мне шел шестнадцатый год, и я считал, что жизнь уже в основном прожита.
Я немного постоял над могилой Запорожца. Был разгар лета. На цвинтаре пахло мятой. Неторопливо и гулко били колокола с высокой островерхой звонницы.
Дома, среди старых комплектов «Нивы» и сборников «Знание», я нашел небольшую книжицу в переплете цвета тусклой синьки. Она называлась «Предания, легенды и сказания стародубской седой старины». Ее написал Рубец по воспоминаниям старенькой няни Варвары. Как и у Пушкина, у него была своя Арина Радионовна, которой он обязан трогательной и вечной любовью к народным сказам и народным песням.
Сейчас, вспоминая об этих далеких днях, я не могу отделаться от чувства обиды и досады на самого себя за то, что упустил время и ничего не расспросил тогда о Рубце. В те годы в нашем городе еще жило немало людей, хорошо помнивших этого человека с густыми запорожскими усами. Помнивших, как он ездил в пролетке по пыльным улицам с одноглазым слугой Трофимом, и досужие остряки шутили, что у лошади было два глаза, у слуги — один, у Рубца — вроде бы и ни одного: последние восемнадцать лет жизни Александр Иванович ничего не видел.
Только сейчас я узнал, что в нашей школе имени Калинина долго лежали сваленные в кучу ноты и книги Рубца, среди которых были и его собственные сочинения — прелюдии, увертюры на украинские темы, романсы и великое множество учебников. По ним в течение полувека преподавали нотную грамоту во всех музыкальных заведениях России. Не знал я и того, что многие песни, которые в годы моей юности пели по вечерам стародубские парни и девки, были записаны Рубцом в наших селах, а после, трансформировавшись в его поэтическом сознании, снова вернулись в народ, чтоб никогда больше не быть забытыми и не исчезнуть бесследно.
Понадобилось несколько лет поисков, чтобы собрать малую толику сведений, хотя бы немного расширяющих строчки скупых словарных справок о