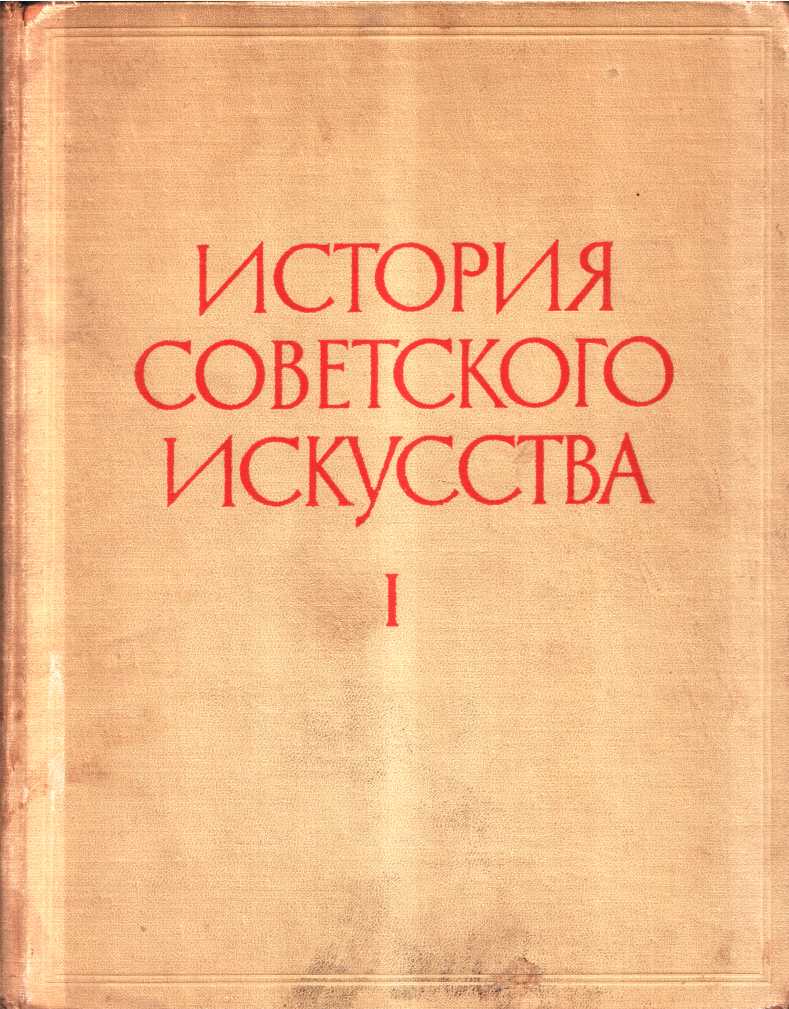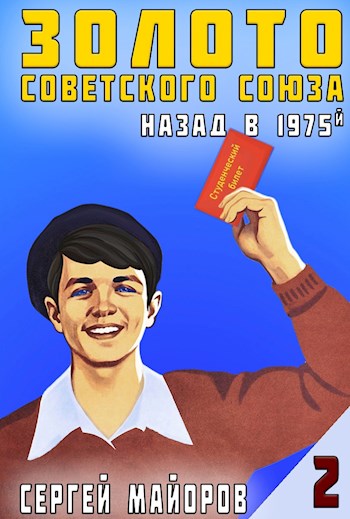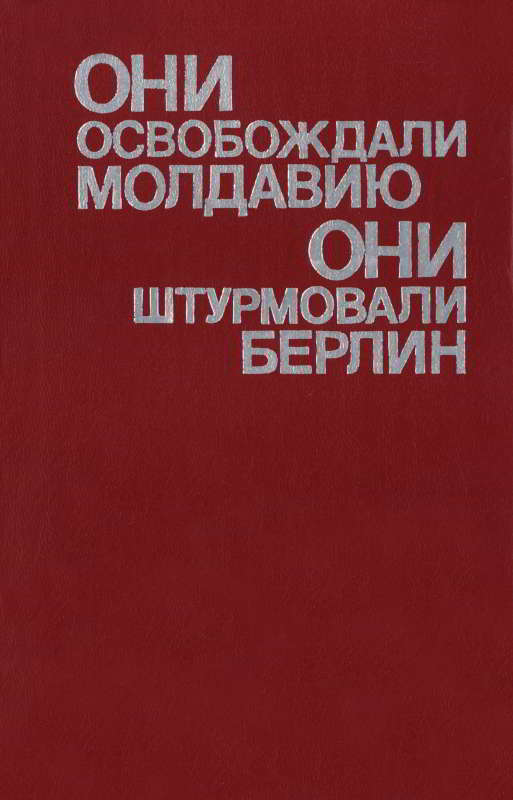Книга Между «Правдой» и «Временем». История советского Центрального телевидения - Кристин Эванс
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Это был частый аргумент в дискуссиях, развернувшихся в прессе после показа «Семнадцати мгновений весны» в августе 1973 года: многие критики подчеркивали, что нацистские персонажи в конечном счете определяются не их индивидуальными особенностями, а их местом в аморальной системе; разоблачение же преступной природы нацизма может быть достигнуто только с помощью неодушевленных, документальных фактов. «Хроника обвиняет и обличает», – писал один из критиков550. Киновед и критик Василий Кисунько утверждал, что один из самых странных элементов фильма – показ и зачитывание гестаповских «личных дел» на главных и второстепенных персонажей – как раз и раскрывает ужас нацистской системы. Создатели этих досье «превращали все индивидуальности фашистских деятелей в тотальную безликость и… выражали действительное положение дел»551. А редактор студии Горького Анатолий Балихин говорил коллегам по худсовету: «…не надо тут претендовать на то, чтобы вскрывать духовный мир [персонажей-нацистов]. Духовный мир этих людей вскрыт в анкетном и изобразительном ряду»552.
Однако признание того, что облик и поведение гестаповцев не могут разоблачить их порочности, прямо противоречило другой центральной теме фильма и его общественного обсуждения – предполагаемой способности телевидения дать зрителям возможность проникнуть в души героев фильма. Перед тем как заметить, что поведение нацистских персонажей ничего не может сказать об их морали, Евстигнеев подчеркнул способность телевидения проникать в душу и мысли. Телевидение, писал он (используя язык, повторявшийся из статьи в статью), способно «более пристально всматриваться в героев, тщательнее анализировать их взаимоотношения… предоставив возможность зрителю как бы наблюдать за ходом мысли, движением души»553.
И сами «Семнадцать мгновений весны», и вызванная ими публичная дискуссия отражали глубокую неуверенность: действительно ли телевидение дает зрителям какой-то особый взгляд, проникающий в мысли и чувства, или же отличить добро от зла можно лишь посредством совокупности исторических фактов и свидетельств либо путем принятия на веру праведности и порочности «систем», породивших Штирлица и его коллег по гестапо соответственно. То, что относилось к гестаповцам, в равной степени относилось и к Штирлицу; в то время как одни в студии Горького и в прессе описывали свой восторг от длинных крупных планов лица Штирлица, другие сомневались в том, что там было на что смотреть554.
Однако уклонение фильма от прямого ответа, можно ли верить зрению, было также вопросом авторитета: можно ли довериться зрителям, предоставить им самостоятельно увидеть и понять заложенное послание, – осудит ли каждый из них в отдельности антигероев фильма? Или, чтобы убедить их, нужны другие, более авторитетные голоса? Ближе к концу в фильме появляется Сталин, называющий Штирлица «честным и скромным». Критикуя эту сцену, Алла Гербер сказала на собрании в студии Горького: «Мне не хотелось бы, чтобы возвращались к этим принципам: раз уж и он сказал!.. Это нам не нужно».
Но, пожалуй, самым важным в соглашении Штирлица и Шлага были не цели, а средства: не раскрытие добра или зла в идейных нацистах, а согласие с тем, что в коридорах власти можно найти как добро, так и зло, признание того, что и «там люди», по выражению нескольких критиков555. Разумеется, в послевоенном СССР было мало сомнений относительно морального статуса Третьего рейха. Однако через несколько лет после советского вторжения в Чехословакию и более чем через десять лет после неполных откровений «секретного доклада Хрущева» моральный статус элиты КПСС был, по мнению некоторых, не столь уж определенным. Таким образом, главная сделка «Семнадцати мгновений весны» заключалась между зрителями телесериала и его заказчиками из «органов»: зрителей просили принять моральную сложность советской власти и человечность тех, кто ею распоряжался.
ШТИРЛИЦ КАК ГЕРОЙ ПОСТФАНАТИЧЕСКОЙ ЭПОХИ
Впрочем, это была лишь одна сторона сделки. А что же получат взамен зрители, приняв моральную двусмысленность – и необходимость – государственной власти и спецслужб? «Семнадцать мгновений весны» предлагали несколько возможностей. В фильме содержалась новая, экспериментальная и более инклюзивная политика, признающая неизгладимый ущерб, нанесенный сталинизмом, и потребность в новых героях и новом стиле руководства. Основой этого нового политического компромисса могло быть, во-первых, признание человечности и патриотизма по обе стороны показанных в фильме социальных и политических баррикад, а во-вторых – общее желание сохранить советское господство в Восточной Европе.
Как сразу заметили советские зрители, нацисты на экране не только «говорили нашими мыслями, нашими формулировками» – весь их мир сильно смахивал на послевоенный Советский Союз556. Это касалось, например, покроя одежды, который, как пишет Марк Липовецкий, напоминал европейский стиль конца 1960‐х, а не середины 1940‐х557. В предыдущих советских фильмах о падении Берлина, например в одноименной картине Михаила Чиаурели (1949), последние дни правления Гитлера были исполнены паники, истерики и жестокости. А вот в «Семнадцати мгновениях весны», как с тревогой отмечали многие зрители, Берлин 1945 года выглядел совершенно спокойным, почти не разрушенным, в нем царила рутина бюрократической жизни558. Использование в сериале кинохроники и флешбэков для описания нацистских преступлений (когда о них шла речь) имело эффект удаления их либо во времени – в прошлое, либо географически – на фронт. Герои, пережившие нацистские тюрьмы и концлагеря, такие как профессор Плейшнер, к моменту своего появления в кадре уже находились на свободе. Как и хрущевские возвращенцы из ГУЛАГа, они были отмечены травмами прошлого, оставившими неизгладимые раны; так, нам не раз сообщают, что Плейшнер был морально и физически ослаблен пребыванием в концлагере559. Все эти преступления нацистских офицеров имели гораздо большее отношение к политической жизни позднего