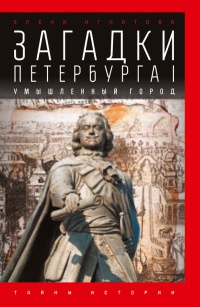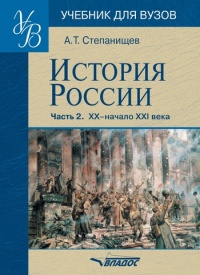Книга Загадки Петербурга II. Город трех революций - Елена Игнатова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Даже признанные властями общественные деятели прошлого вызывали у молодежи пренебрежительную усмешку. Лидия Жукова вспоминала знаменитого юриста А. Ф. Кони: «И вот он перед нами, эта живая легенда: высохший грибок, сбившийся, трепаный комочек… Как-то иду по Надеждинской, смотрю — перед подъездом стул, обыкновенный домашний стул, а на нем знакомая тряпичная кукла. Греется на солнышке. Великий Кони…» В мемуарах, написанных ею через полвека, запечатлелось высокомерие молодой советской интеллигенции 20-х годов. Она вспоминала о превращенной в музей «последней квартире Романовых» в Александровском дворце, где все осталось по-прежнему: игрушки в детской цесаревича, семейные фотографии на столах, свидетельства жизни жестоко загубленных людей. Но Лидию Жукову поразило не это, а буржуазная безвкусность обстановки!
Тогда такие наблюдения были в моде, Лариса Рейснер тоже писала о буржуазной безвкусице покоев расстрелянных великих князей. Спустя полвека Жукова помнила вазочки, белый телефон на столе императрицы, ванную с бассейном, но ни словом не упомянула о главной особенности царских покоев. Об этой особенности сообщала в 1923 году «Красная газета»: «За будуаром — спальня [императрицы]. О том, что это спальня, говорит только стоящая у стены огромная кровать. Все остальное больше напоминает домовую церковь. Иконы, иконы, иконы… Остальное занято огромным иконостасом… Рядом комната двух старших дочерей — Ольги и Татьяны. Эта детская также напоминает домовую церковь, с той разницей, что количество иконостасов и мест для коленопреклонения здесь значительно больше». Забывчивость Жуковой объяснима, религиозный аспект жизни был вне интересов молодежи ее круга, его просто не замечали. Она же вспоминала о том, как во время церковного венчания Марины и Николая Чуковских «мы расшалились, кто-то хихикал („Религия — опиум для народа“). Венчавший батюшка что-то загрохотал недовольно».
Молодых друзей Анны Ахматовой смущало ее обыкновение креститься, проходя мимо церкви, это казалось пережитком прошлого, да и сама Ахматова в свои 35–37 лет была официально признана пережитком прошлого — ей назначили пенсию за былые литературные заслуги. В 1925 году критик В. О. Перцов писал: «Мы не можем сочувствовать женщине, которая не знала, когда ей умереть», а московские поэты-«ничевоки» публиковали ернические диалоги: «Как поживает там Анна Ахматкина? — Говорят, что Ахматкина уже никак не поживает… Говорят, что она уже загнулась». А через несколько лет Анна Ахматова услышит вопрос: «Вы, кажется, были когда-то писательницей?» Характерно воспоминание Евгения Шварца о появлении в ленинградском Союзе писателей Федора Сологуба, оно напоминает явление Каменного гостя в мир живых: «Его тяжелое лицо, и русское и римское, сохраняло полное спокойствие, будто он был в комнате один. И все притихли, и что-то как будто прояснилось на мгновение. Шел человек чужой, но поэт, умирающий, но еще живой».
Бывшие люди, живые мертвецы, пережитки прошлого — им давно следовало умереть, они были лишними и даже опасными в новом обществе. По утверждению Лили Брик, Маяковского довели до самоубийства грипп и разговоры «литературных бывших людей» об искусстве! В поездах времен военного коммунизма бывших людей можно было определить по запаху: тогда свирепствовал сыпной тиф, и считалось, что разносчиков заразы — вшей — отпугивает запах нафталина и камфары. Поэтому, собираясь в дорогу, люди из «чистой публики» рассовывали по карманам или зашивали в ладанку пахучие шарики. От них пахло нафталином, тлением, как от залежавшегося старья, и соседи брезгливо отодвигались.
Сходное чувство молодежь испытывала к культуре прошлого: Серебряный век исчез за выжженной полосой революции и Гражданской войны, и жизнь как будто вывернуло наизнанку. Вежливость теперь считалась проявлением «старорежимности», а грубость — признаком передовитости. Лингвист А. М. Селищев в опубликованной в конце 20-х годов книге о языке новой эпохи отмечал его обеднение, вульгаризацию, засилие блатного жаргона. По его наблюдению, речи и статьи вождей были полны «грубых ругательств, особенно резких по отношению к противникам коммунистической власти и к лицам своей среды, нарушившим партийное единство». Еще развязнее была комсомольская пресса, ее страницы пестрели бранью и даже матерщиной. У молодежи «революционным» стал считаться блатной жаргон, при прощании теперь говорили «ну, пока»[40]или «до скорого», рукопожатие сменилось хлопаньем по плечу, а обращение на «вы» почти исчезло из обихода.
Даже люди старшего поколения порой сомневались в реальности недавнего прошлого. Неужели «большая, рыхлая, 45-летняя женщина» — это воспетая Блоком Прекрасная Дама? «Глаза узкие. На лоб начесана челка», — писал в 1926 году К. И. Чуковский о Любови Дмитриевне Блок. Она служила корректором в Госиздате и тоже изъяснялась языком новой эпохи: «Летом случалось вырабатывать до 200 р. в месяц, но теперь, когда мы слились с Москвой, заработок уменьшился вдвое» (курсив мой. — Е. И.). «Того чувства, что она „воспетая“, „бессмертная“ женщина, у нее не заметно нисколько, да и все окружающее не способствует развитию подобных бессмысленных чувств», — отмечал Чуковский. Бывшая жена поэта Ходасевича, «бедная Анна Ивановна Ходасевич с голоду пустилась писать рецензии о кино. Была на интереснейшей американской фильме, но рецензию пишет так: „Опять никчемная американская фильма, где гнусная буржуазная мораль и пр.“ — Иначе не напечатают, — говорит она, — и не дадут трех рублей!», записывал Чуковский. Поблекли, утратили очарование знаменитые петербургские красавицы Серебряного века, их изменили не только невзгоды — кончилась эпоха, одухотворявшая их красоту. «Жизнь до того изменилась, что я иногда сомневаюсь, жива ли я еще», — признавалась в 1926 году Е. А. Свиньина.
Но, несмотря на все перемены, из жизни города не исчезли его особые, «петербургские» черты и коллизии. Однажды герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников остановился на улице послушать пение: юная певица, в мантильке, перчатках, шляпке, исполняла под аккомпанемент шарманки чувствительный романс. В репертуаре уличных певцов 20-х годов тоже преобладали чувствительные романсы: «Наше счастье разбить пожелали, наруши́ли семейный покой, от меня мою детку отняли. Ах, за что ж я несчастный такой!», «Скажи, зачем меня прельщаешь, и что меня к тебе влечет? Иль так ты взглядом поражаешь, твой образ ходу не дает» и тому подобное. В июле 1924 года «Красная газета» писала об одной из уличных певиц: «Бывшая полковница. Черная креповая шляпка. На плечах тальмочка. В руках ридикюльчик. Во двор заходит смело, но всегда разыщет дворника или управдома и спросит: „Разрешите спеть два романса“. Из-под тальмочки извлекает тетрадку нот, долго переворачивает страницы… Потом легонько откашливается и: „Я шансоньетка! Поберегитесь! Стреляю метко! Не попадитесь!“ Окончив один романс, старуха поет другой и вдруг начинает приплясывать». Тальмочка, шляпка, перчатки… — уж не ее ли когда-то слушал Раскольников? Или это обезумевшая Катерина Ивановна Мармеладова? Старуху сопровождала молодая женщина, вдова ее сына, она тоже пела, а старуха пускалась в дикий пляс. Их жалели, из окон летели во двор завернутые в бумажку монеты. Репортер назидательно замечал, что бывшая полковница богаче своих слушателей: он видел, как она купила пирожное на собранные пятаки!