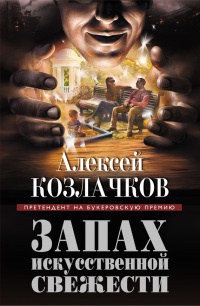Книга Ослиная Шура - Александр Холин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Кукша, – еле слышно прошептал старец.
Монах, келия которого когда-то находилась здесь же, поклонился узнавшему его старцу. И в это время сгущающаяся тьма вокруг на несколько минут поредела, будто частица Света Фаворского проникла в отшельническую обитель.
– «Тако да просветится свет ваш перед человеки, яко да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего, иже на небесех»,[48]– произнёс Кукша.
– А можно я с вами здесь останусь? – поспешил забить место Павел.
– Изволь, – кивнул Силуан. – Вот в углу ещё одна циновка. Располагайся. А мы пошли по своим местам. Одно запомни, если ночью кто входить будет, не пугайся, не кричи, только успей осенить себя крестным знаменьем. К нам нежить часто заходит, на то здесь и Караул.
Остальные паломники разбрелись по своим местам. В этой пещере остались только Кукша, старец Ефимий и Павел.
– Знаете, – негромко обратился художник к Кукше. – Знаете, я ведь у игумена Силуана просился не только на одну ночь. Я приехал на Святую Гору затем, чтобы насовсем здесь остаться!
– Знаю, – кивнул монах. – Догадался. Да и грех не догадаться, когда у тебя на лице всё написано. А знаешь, почему я сейчас в Ксиропотаме, а не здесь? Ведь даже слепой и глухой старец Ефимий меня признал!
– Почему?
– А всё, брат, потому, что не каждый из нас молитвенником может стать. Настоящим! Меня здесь игумен Силуан от смерти спас. Как-то после утренней молитвы я настолько почувствовал себя святым и открытым к Богу, что увидел прямо возле пещеры парящего в воздухе ангела, который молча поманил меня к себе. Ну, я и шагнул, потому что сам Божий ангел зовёт. А обрыв тут, если помнишь, не маленький и внизу только острые камни. В общем, успел игумен меня за подрясник ухватить. А потом я поклонился Ефимию, и он наказал возвратиться в монастырь. Я послушался. И гордыня стала оставлять меня. Не сразу, не просто так, но, даст Бог, сумею в себе эту нечисть побороть.
Вот и ты, спроси сначала у старца – что делать? – хуже не будет. А дар прозорливости позволяет избранным оказывать нам помощь. Но давай это всё до утра отложим.
Ночь в Карауле выдалась сложная. После вечерней молитвы за дверями кельи вдруг явственно раздался стук копыт, будто хороший рысак резвился на дороге. А какая тут дорога? После этих звуков на Павла вдруг свалился неописуемый ужас: захотелось кричать, отбиваться от кого-то невидимого или убежать, спрятаться, зарыться в землю. Очень нелегко удалось паломнику успокоить своё взбунтовавшееся сознанье. Но это тоже дало неожиданные результаты. Ему вдруг стали приходить на ум стихи. Павел, благо, что в кармане всегда был блокнот и авторучка, на ощупь записал что-то пришедшее в голову, надеясь утром разобрать. Только после этого ему удалось на какое-то время забыться.
Утро свалилось на Караул радостным, лёгким, очищающим от лап эфемерного сна. Казалось, всё, что привиделось ночью, лишь плод собственного воображения, подкреплённого предупреждением афонских монахов о проделках горных духов на обрыве у Святой горы.
Хотя какие уж тут проделки! Павел вспомнил, что ему приснилось в момент забытья, и по-собачьи встряхнул головой. Рядом оказался Корнелий. Заметив состояние паломника, он поинтересовался:
– Приснилось что? Или ночью гости приходили?
– Приходили, – сокрушённо кивнул Павел. – Сначала я прямо в темноте стихи записал, а потом…
– Стихами давно балуешься? – перебил Корнелий. – Пойми, это серьёзно. Я не просто из любопытства спрашиваю.
– Сколько себя помню, – простодушно признался Павел. – И писать картины тоже с раннего детства начал.
– Можешь прочитать, что написал? – подал голос Кукша, давно уже прислушивающийся к разговору. – Корнелий правду говорит, это серьёзно.
– Хорошо, – согласился Павел.
Он вытащил из кармана почерканный неровными закорючками листок, некоторое время разбирался в записях, что-то тут же исправлял, потом, авторитетно откашлявшись, принялся читать:
Не вспоминал тебя и не просил остаться
под зовом дня, под перекликом птиц.
Ведь это всё же лучше, может статься,
чем графика оплавленных глазниц.
Мильоны лиц.
Дорога до Афона.
И тихий удивительный покой.
Звон била и ступени Иверона.
И будто Богородица рукой
души коснулась…
Чувство благодати.
И перестал пустынным быть Афон,
и так хотелось поделиться, кстати,
с тобою, не слыхавшей этот звон.
– Заявка основательная, – заметил Корнелий.
– Ещё какая основательная, – согласился Кукша. – Стихотворение получилось. Кстати, название можешь дать, например, «На подступах к Хиландарю». Мы сегодня к вечеру как раз успеем добраться в этот монастырь. И теперь я, кажется, знаю, почему ты, ещё не состоявшийся художник, собрался стать отшельником, не получив на это благословения. У тебя в жизни когда-то случилось примерно так: любовь в куски, карета набок, а кони к звёздам унеслись?
– Было, – сознался Павел и неизвестно почему покраснел. – Причём, моя девушка не просто так меня бросила. Как у нас в Москве говорят «любовь-морковь». Вовсе нет. Она в аварию попала… Погибла… А сегодня ночью оказалась со мной на циновке и умоляла о несостоявшейся первой брачной ночи. Причём, это была точно она, потому что я даже запах её тела помню.
– Вот что, брат мой, – продолжил Кукша. – Сейчас, после утреней молитвы, подойди, поклонись старцу Ефимию. Он все наши мирские проблемы видит, как сквозь прозрачное стёклышко. Худо не будет, если ты ему всё сам расскажешь. И забудь, что старец ничего не слышит. Он все узнает, только не прячь души от него, не закрывайся…
Так и сделали.
Старец Ефимий долго и внимательно слушал исповедь паломника. Во всяком случае, тот был уверен, что старец каким-то образом слушает его и слышит! А в конце исповеди прозорливец протянул руку и иконе «Семи царственных мучеников», стоящую здесь же, и тихо произнёс:
– Вот где ты найдёшь своё послушание. Вот чему научишь ты будущих Богомазов…
Павел часто потом вспоминал путешествие на Афон. И навсегда запомнились наставления старца Ефимия. Постоянное общение с иконами очищает душу и она, очищаясь, стремится поделиться тем светлым, добрым, неземным, из чего она соткана. Это удивительное переживание чужого восторга и благоговения, когда видишь себя изнутри, только тогда начинает раскрываться человеческая натура, её сущность. Всё наносное и липкое, привнесённое мирскими заботами и суетой отпадает, становиться настолько лишним, ненужным, неважным, что зачастую человек удивляется: как можно было обращать внимание, растрачивать себя на мелочные вездесущие дрязги и дребезги?
Все понятые им причины человеческого существования он пытался передать Шуре. А она, как сухая губка, впитывала живительную влагу человеческой жизни. Более того, только в общении с Павлом Петровичем начала совсем под другим ракурсом рассматривать происходящее вокруг и расценивать по другим критериям человеческие поступки.