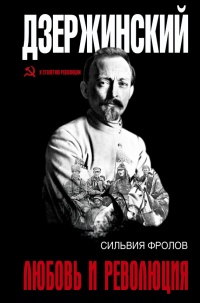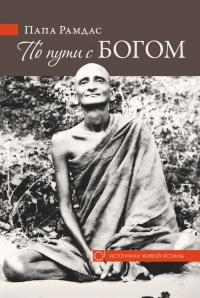Книга Бедный попугай, или Юность Пилата. Трудный вторник - Юрий Вяземский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В движениях своих она была раскованна и стремительна. Но стремительность ее была грациозной, а раскованность — что называется, высшей пробы, которой только очень знатные женщины от природы наделены или вследствие особого воспитания приобретают.
Для женщины она была хорошо образована. Но, в отличие от тогдашних образованных женщин, не выставляла напоказ свои знания и умения: не цитировала кстати и некстати Вергилия, не рассуждала об ораторах и философах, не играла и не пела, даже когда ее об этом просили, хотя, как мне стало известно, знала множество песен (не только испанских и египетских) и аккомпанировала себе на набле, на лире, даже на кифаре.
Но, пожалуй, самым ярким, самым привлекательным в ней было… Как бы это точнее назвать?.. Ее мгновенная и обворожительная переменчивость. Она никогда не бывала однообразной, как многие женщины, которые однообразно веселятся, или скучают, или сердятся, или смущаются… В ней все происходило почти одновременно и всегда непредсказуемо. То есть, среди веселья она могла неожиданно загрустить, а потом смутиться и вслед за этим тут же разгневаться. И эти перемены случались в ней со стремительной быстротой и чрезвычайно искренне. И после каждой смены своего настроения она всё больше и больше хорошела…
Вардий перестал морщиться и страдать, ласково улыбнулся мне и продолжал:
III. — С четырнадцати своих лет она стала изредка спускаться по лестнице со второго этажа, когда мы собирались у ее брата. Но долго с нами не задерживалась, снова удаляясь наверх. А мы пялились на нее — почти все, даже Педон Альбинован, совершенно к женщинам безразличный, — и некоторые требовали у Макра, чтобы он велел младшей сестре вновь появиться… Один лишь Голубок на нее ни малейшего внимания не обращал. Ни когда ей было четырнадцать, ни когда ей стало шестнадцать.
И лишь когда ей исполнилось уже восемнадцать и я, удивляясь, что она до сих пор не вышла замуж, отбросив сомнения и поборов стеснительность, решился, наконец, просить у Гая Макра Постумия руки его дочери, а Голубок вызывался мне поспособствовать в этом деле… Теперь он уже не мог ее не заметить. Потому что когда мы пришли к Макру, переговорили с отцом и тот призвал сверху Помпонию, она не только явилась перед нами во всем своем очаровании, но при объявлении о моем предложении сначала смутилась, потом рассердилась, а следом за этим обрадовалась и, пальчиком указав на Голубка, объявила:
«Вот за него я выйду хоть завтра».
И тотчас удалилась, оставив в полной растерянности своего отца, брата, меня и особенно Голубка… Он тогда с особым усердием обучал музыке и пению Эмилию, свою галатею.
Когда, выслушав от Гая Постумия долгие извинения за возмутительное поведение его дочери, мы вышли на улицу, Голубок мне сказал:
«Помпония… Какое дурацкое имя у девушки… (Как будто он впервые узнал, как звали сестру Макра!)… У нее такие черные волосы. Будь я ее отцом, я бы назвал ее Меланией („мелайна“, как ты должен знать, по-гречески означает „черная, темная“)… И мать у нее гречанка… Не горюй, милый Тутик. Я твою Меланию постараюсь уговорить».
Гней Эдий Вардий еще ласковее мне улыбнулся и продолжал:
— Отныне Помпонии не стало. Вместо нее на свет появилась Мелания. И эта Мелания, как ты догадываешься, не стала моей женой. Потому… Потому что через месяц она стала возлюбленной Голубка. Подлинной, как ты помнишь.
IV. Он мне потом признавался, виноватый и радостный, когда уже не было мочи таиться: «Мы несколько раз встретились, и я ей старательно живописал, какой ты хороший и добрый. А она молчала и смотрела на меня своими влажными, ласковыми карими глазами. И взгляд ее с каждой встречей становился всё упрямее, всё настойчивее… Уже в первый раз я как бы унес на своем лице его отпечаток. Во второй раз, когда я ушел от Мелании, мне казалось, что ее взгляд проник мне в глаза, и оттуда разлился по всей голове: в ушах зазвучал ее голосом, в нос заполз ее запахами; черные ее волосы и белое лицо постоянно возникали у меня перед глазами, особенно когда я закрывал их; и когда старался не думать о ней, всё чаще и навязчивее думал и представлял… Прости меня, Тутик! Мне стыдно и трудно тебе это объяснять. Но каждый раз она будто вселялась в меня, проникая всё глубже и глубже, какую-то часть меня самого вытесняя и заполняя ее сначала только своим взглядом, потом — целым лицом, потом — жестами, движениями, руками, фигурой, всею собой. Я будто поддавался и отступал в какую-то еще незнакомую мне глубину меня самого, а она меня наводняла, омывала собой, словно направляя мое отступление, одновременно меня размывая, растворяя в себе и ласково окутывая снизу и сверху, чтобы я совсем не исчез, и свою сердцевину, ту, что любит и мыслит, для нее сохранил… Тутик мой милый! Я так виноват перед тобой!.. Но нет! Это она во всем виновата! Ее взгляд. Ее волосы!»
Со мной он больше не решался заговаривать о Мелании. А выбрал себе в конфиденты Эмилия Павла и ему изливал душу. «Ты будешь смеяться надо мной, — например, говорил он, — но я до сих пор к ней пальцем не притронулся. Когда мы встречаемся, я сижу подле нее и нежусь в ее лучах, как будто она… Нет! Не солнце! Она как ночь. И если у ночи есть лучи — не лунные и не звездные, а собственные, ей самой принадлежащие и ею излучаемые — темные, пахучие, нежно-щемящие, наполненные какими-то легкими и таинственными движениями, то ли призраков, то ли наших чувств, очень глубоких и смутных, едва пробудившихся и прячущихся за другими чувствами, мыслями и фантазиями… Послушай, Павел. Если то, что было со мной до сих пор — все мои увлечения, этот рой женщин, к которым я вожделел, которыми обладал, влюблялся и разлюбливал, — если всё это было любовью, то как назвать это новое чувство, которое лишено вожделения, не требует обладания — потому что не ты, а тобой обладают, в тебе присутствуют?..»
…Она им и впрямь через некоторое время овладела, не только духовно, но и физически. Голубок об этом никому в амории не рассказывал. Но однажды не утерпел и выплеснул чувства на Юла Антония. А тот, зная, что я влюблен в сестру Макра и даже делал ей предложение, как-то встретив меня в садах Мецената, увлек в сторону от друзей и сказал:
«Ты только никому не говори, но наш Голубок отприапил наконец Помпонию, или Меланию, как он ее называет. Вернее, этой Мелании, похоже, надоели его любовные воздыхания, и она его оседлала и отприапила. Думаю, в позе всадника… Он, впрочем, позы не уточнял. Но говорит, что такой страстной, ненасытной и опытной женщины он еще не встречал. Страстной и ненасытной — могу допустить. Но опытной?.. Откуда в ней опыт? Мы все считали ее девственницей… Я выразил свои сомнения Голубку. А он смеется: у нее это от природы, она, дескать, дочь Ночи, а Ночь — древнейшая из богинь… И стал мне описывать ее глаза, которые в сумерках — серые, перед рассветом — желтые, а в часы любви — синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. И говорит: из ее трепетавших губ высовывался порой розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи. А я, говорит, мучился между двух желаний: убить этого зверя и обладать ею нескончаемо, неутолимо. Когда она раздевается, сбрасывает одежды и появляется сияющая и бесстыдная из волн белья, словно Венера из пены, я чувствую себя низким и подлым рабом, которого усадили на колесницу, нарядили в одежды триумфатора и повезли в храм Юпитера Капитолийского… Такая у них теперь страсть! И весь дрожал, когда об этом рассказывал… Но ты ведь знаешь эту Меланию-Помпонию. У нее карие глаза. А карие глаза разве могут быть серыми и тем более синими?.. Ты только не говори Голубку, что я тебе рассказал. Он меня просил никому не рассказывать».