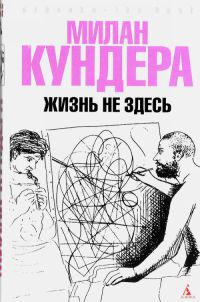Книга И эхо летит по горам - Халед Хоссейни
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Могу ли я спросить, кто вам это сказал?
— Хозяин дома. Его зовут Наби. Ну, то есть, следует говорить «звали». Его, как ни печально, недавно не стало. Помните его?
Имя вызывает у Пари в памяти симпатичное молодое лицо, бакенбарды, копну темных волос, зачесанных назад.
— Да. В основном лишь имя. Он был у нас поваром. И еще шофером.
— Да, и тем и другим. Он жил в этом доме с 1947 года. Шестьдесят три года. Немного невероятно, да? Но, как я уже сказал, он скончался. В прошлом месяце. Я его любил. Все его любили.
— Понятно.
— Наби оставил мне записку, — говорит Маркос Варварис. — Я должен был прочесть ее лишь после его смерти. Когда он умер, я попросил своего афганского коллегу перевести ее на английский. Это гораздо больше, чем просто записка. Точнее будет сказать — письмо, и замечательное. Наби в нем кое-что сообщает. Я искал вас, потому что часть этого письма адресована вам, а также потому, что в нем он впрямую просит найти вас и передать это письмо. Пришлось повозиться, но мы смогли вас обнаружить. Спасибо интернету. — Он кратко усмехается.
Пари отчасти хочет повесить трубку. Подспудно она не сомневается: какие бы откровения этот старик — этот человек из ее далекого прошлого — ни излил на бумагу на другом краю света, они подлинны. Она уже давно знала, что маман врала ей о ее детстве. Но даже если почву ее жизни разрушила неправда, то, что она в эту почву посадила, — истинно, живо и неколебимо, как великанский дуб. Эрик, ее дети, внуки, карьера, Коллетт. Тогда в чем смысл? После стольких лет — в чем смысл? Может, и впрямь лучше повесить трубку.
Но она не вешает. Пульс сбивается, ладони потеют. Говорит:
— Что… что он сообщает в этой записке, в своем письме?
— Ну, хотя бы то, что он — ваш дядя.
— Мой дядя.
— Ваш сводный дядя, если точнее. И много чего еще. Он говорит много чего другого.
— Месье Варварис, оно при вас? Эта записка, это письмо или перевод? При вас?
— При мне.
— Может, вы прочтете его мне? Можете прочесть?
— Прямо сейчас?
— Если у вас есть время. Я могу вам перезвонить, чтобы за мой счет.
— Нет, ну что вы. Но вы уверены?
— Oui, — говорит она в трубку. — Уверена, месье Варварис.
Он читает ей письмо. Все целиком. Это небыстро. Когда он заканчивает, она благодарит его и говорит, что скоро выйдет на связь.
Повесив трубку, она включает кофеварку, а пока кофе варится, стоит у окна. Отсюда ей открывается знакомый пейзаж: узкая мощеная улочка, аптека в квартале отсюда, фалафельная на углу, булочная, которой владеет семья басков.
У Пари трясутся руки. С ней происходит нечто поразительное. Нечто совершенно замечательное. Оно представляется ей так, будто колун входит в землю и вдруг, пузырясь, на поверхность вырывается жирная черная нефть. Именно это с ней и происходит: из глубин поднимается память. Она смотрит в окно на булочную, но видит не тощего официанта под маркизой — в черном переднике, завязанном на талии, он трясет скатертью над столом, — а маленькую красную тачку со скрипучими колесами, что прыгает по дороге под небом плывущих облаков, катится по гребням и пересохшим канавам, вверх-вниз по охряным холмам, что наползают и отваливаются вдаль. Она видит сплетение фруктовых деревьев в куртинах, ветер цепляет листья, ряды виноградных лоз, связывающих маленькие домики с плоскими крышами. Видит бельевые веревки и женщин на корточках у воды, трескучие тросы качелей под большим деревом, крупную собаку, что вся сжалась от побоев деревенских мальчишек, и мужчину с ястребиным носом — он копает канаву, рубаха прилипла к спине от пота, а рядом с ним женщина с закрытым лицом готовит что-то на огне.
Но есть еще что-то на границе этой картинки, на краю ее зрения, вот к чему ее тянет сильнее всего: неуловимая тень. Фигура. И мягкая, и твердая одновременно. Мягкость руки, держащей ее руки. Твердость коленей, на которые она когда-то ложилась щекой. Она ищет его лицо, но оно бежит ее, ускользает всякий раз, когда она за ним поворачивается. Пари чувствует, как внутри разверзается пропасть. В ее жизни — всю ее жизнь — было у нее внутри великое отсутствие. Она почему-то всегда это знала.
— Брат, — говорит она, не замечая, что вслух. Не замечая, что плачет.
Внезапно на языке возникают строчки из песни на фарси:
Я знаю грустную феечку.
Ее ветром ночь унесла.
Есть там еще строки, вероятно — перед этими, она уверена, но они тоже ускользают от нее.
Пари садится. Приходится сесть. Она не знает, сможет ли выстоять еще хоть миг. Ждет, пока вскипит кофе, и думает: когда он сварится, ей предстоит его выпить, а потом, быть может, и закурить, а затем ей надо будет дойти до гостиной, позвонить в Лион Коллетт и спросить, сможет ли ее старая подруга организовать ей поездку в Кабул.
Но пока Пари сидит. Она закрывает глаза, кофеварка начинает булькать, а она видит под веками холмы, что лежат так мягко, и небо, что раскинулось так высоко и сине, и солнце садится за мельницу, и всегда, всегда смутная цепочка гор, уходящих все дальше и дальше за горизонт.
Лето 2009-го
— Твой отец — великий человек.
Адиль поднял взгляд. Это Малалай, склонившись, прошептала ему на ухо. Пухлая женщина средних лет в фиолетовой, расшитой бисером шали на плечах, она улыбалась ему, закрыв глаза.
— Тебе повезло, мальчик.
— Я знаю, — прошептал он в ответ.
Хорошо, — ответила она одними губами.
Они стояли на ступенях перед новой городской школой для девочек — прямоугольным светло-зеленым зданием с плоской крышей и большими окнами, — а отец Адиля, его Баба-джан, прочитал краткую молитву, а за ней произнес оживленную речь. Перед ним на ослепительной полуденной жаре собралась большая толпа щурившихся ребятишек, родителей, стариков — примерно сотня местных из маленького городка Шадбага-и-Нау, Нового Шадбага.
— Афганистан — наша общая мать, — сказал отец Адиля, воздев толстый указательный палец к небесам. Солнце отразилось в его перстне с агатом. — Но она мать хворая, и она долго страдала. Так вот, это правда, что матери, чтобы выздороветь, нужны ее сыновья. Да, но ей нужны и дочери — не меньше, если не больше!
Это вызвало шумные аплодисменты, выкрики из толпы и одобрительное улюлюканье. Адиль оглядел лица в толпе. Все они завороженно смотрели на его отца. Баба-джан — черные кустистые брови, густая борода — величественно возвышался над ними, и плечи у него были почти так же широки, как и входная дверь в школу за его спиной.
Отец продолжал. Адиль поглядел в глаза Кабиру, одному из двух телохранителей Бабы-джан, стоявших невозмутимо с «Калашниковыми» в руках по обеим сторонам от отца. Адиль видел отражение толпы в темных летных очках Кабира. Кабир был малоросл, щупл, чуть ли не хрупок и носил костюмы ярких цветов — лавандового, лазурного, оранжевого, — однако Баба-джан говорил, что он — ястреб, и недооценивать его — оплошность, какую делаешь на свой страх и риск.