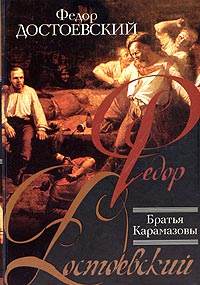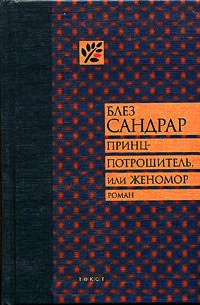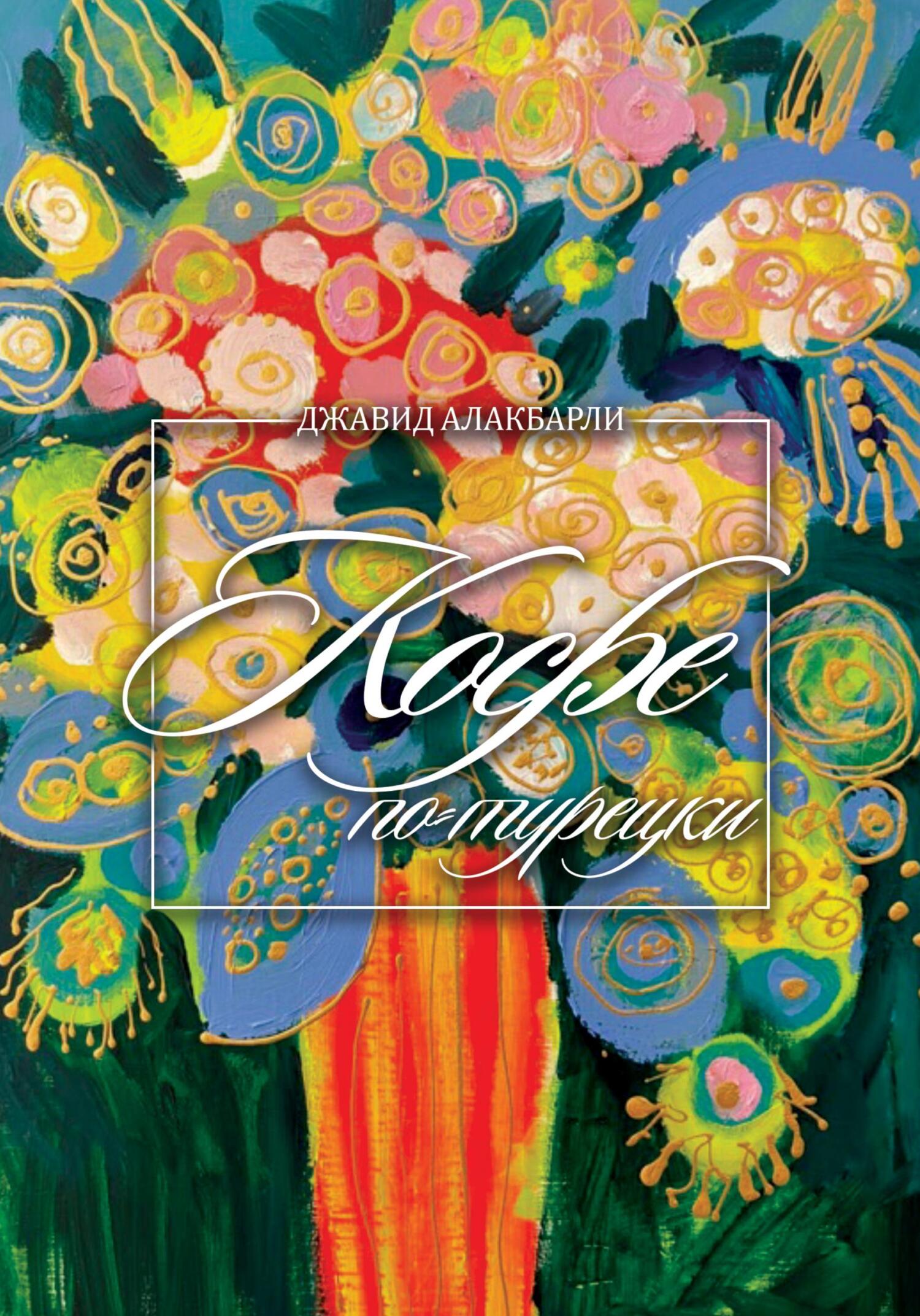Книга Что видно отсюда - Марьяна Леки
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Что означает untamed nature? — спросила она, и оптик сказал:
— Неприрученная природа.
Я писала Фредерику, Фредерик писал мне, мы переписывались, несмотря на мою подписку, а может, как раз поэтому, и хотя нашим письмам приходилось огибать полмира, хотя они подвергались риску технических и человеческих отказов, они исправно доходили до места, хотя и с большим сдвигом по времени. «Близнец из Обердорфа, который теперь работает на почте, сунул новорожденных котят в мешок и утопил их в Яблоневом ручье», — писала я Фредерику, а две недели спустя приходил ответ: «Топить котят — это приносит очень плохую карму».
«А не могли бы мы поговорить по телефону?» — написала я Фредерику, и он, как я и ожидала, ответил, что звонить по телефону очень хлопотно и сложно.
Хотя это было анатомически невозможно, я пыталась трансформировать любовь — пусть это будет обозримая и удобоваримая любовь; это тоже было слишком хлопотно и сложно, но оттого, что я не видела Фредерика и ни разу не говорила с ним, обозримость как-то можно было со временем себе внушить.
Оптик иногда спрашивал, как у меня дела с Фредериком.
— Мы переписываемся, — говорила я, и оптик находил, что это не ответ на его вопрос.
— Ты все-таки любишь его, — сказал он, когда я сидела на его табурете для обследования, чтобы проверить свои глаза, они постоянно болели, когда я читала слишком мелкий текст.
— Нет, — сказала я, — уже нет.
И таблица для проверки зрения упала за спиной оптика на пол; он пошел в заднюю комнату и принес другую.
— Я сделал ее специально для тебя, — сказал он.
На ней было начертано:
Я подалась вперед.
— Мне нужны очки, — сказала я.
Господин Реддер опрыскивал Аляску «Блю оушен бризом», Марлиз жаловалась лавочнику на овощи глубокой заморозки, а мой отец приехал в гости. Он стал все больше походить на Генриха. Постепенно пропорции его лица приходили в движение, словно материковые массы, и медленно складывались в лицо его отца.
— Как странно, — сказал он и взял себя за нос, — при этом я теперь гораздо старше, чем он был когда-либо.
И когда на мой двадцать пятый день рождения пирог был весь плотно утыкан свечками, оптик сказал:
— Сердечно тебя поздравляю. Радуйся, что они вообще уместились на пироге. В моем случае уже понадобилась бы половина кондитерской.
— Закрой-ка глаза, — сказала Сельма и надела мне на шею ожерелье из голубых камней.
— Камушки, кстати, цианисто-кобальтовые, — заметил оптик.
— Спасибо, — сказала я.
«Сердечно поздравляю, дорогая Луиза, — написал Фредерик. — У меня такое чувство, будто тот, кто, надеюсь, желает нам добра, посадил нас во главе одного и того же стола с двух его концов. Правда, этот стол растянулся на девять тысяч километров (при таких размерах уже можно, пожалуй, говорить о пиршественном столе), и, хотя мы не видим друг друга, я знаю, что ты сидишь напротив меня на другом его конце».
Оптик посмотрел на меня.
— Камни цианисто-кобальтовые, — напомнил он еще раз.
— Да ладно, хватит тебе, — сказала я, — я поняла.
— Что означает the impressive Greenland ice deposits? — спросила Сельма на свой следующий день рождения, и оптик сказал:
— Впечатляющие залежи льда в Гренландии.
Пальм цитировал места из Библии, оптик сводил вместе предметы, не имеющие никакой связи друг с другом (гальку и прически, апельсиновый сок и Аляску), а Марлиз заклеивала и без того непрозрачные стекла своей входной двери оберточной бумагой. Я переносила все еще нераспакованный стеллаж, который Фредерик подарил мне четыре года назад, из одного угла комнаты в другой. Дочь бургомистра и правнук крестьянина Хойбеля народили на свет шестого ребенка, а я обзавелась очками, а потом наступило полное затмение Солнца.
Еще никогда в жизни у оптика не было столько покупателей. Приезжали люди из райцентра и из деревень, в которых уже раскупили все очки для наблюдения солнечного затмения. Я помогала оптику продавать, у него из-за обилия покупателей раскраснелись щеки и осип голос. Близнец из Обердорфа, который не работал на почте, пытался перепродать свои очки за восемьдесят марок, но никто у него не купил.
Мы наблюдали солнечное затмение с ульхека. Там собралась вся деревня, бургомистр сделал групповой снимок. Когда солнце совсем скрылось, Пальм снял свои очки и смотрел без защиты в самую середину черного круга.
— Что ты делаешь, — испуганно воскликнула Сельма и закрыла Пальму глаза ладонью.
— Очки не пропускают свет, — объяснил Пальм.
— Так в этом же весь смысл, — сказала Сельма.
Поскольку ее искривленные пальцы не смыкались плотно, Пальм хорошо видел сквозь них, а потом вскоре время перешагнуло из одного тысячелетия в другое.
— Надо же, до чего я дожила, — сказала Сельма. — Но если время и дальше так побежит, то я, пожалуй, доживу и до следующего тысячелетия.
«Боюсь, как бы в новом тысячелетии не исчезла сила тяготения», — написала я Фредерику.
Мы праздновали в правлении общины деревни, оптик и лавочник беспрерывно запускали в воздух ракеты фейерверка, сверху наша деревня выглядела как корабль, терпящий бедствие, а позади дома, у туалетов, я спьяну целовала пьяного близнеца из Обердорфа, который работал на почте, я целовала его, несмотря на его плохую карму, и оттого, что от шампанского «Красная шапочка» все кружилось, но я сразу же прекратила это дело, как только он сказал:
— Луиза, да ты просто настоящая ракета фейерверка.
Сила тяготения не пострадала, ничто не стало другим, только в сериале Сельмы ту актрису, что десятилетиями играла Мелиссу, вдруг сменили на другую. Сельма ответила на это сердитым фырканьем. Потом посмотрела на меня и сказала:
— Надо уже что-то делать.
— Что? — спросила я.
— Сходи куда-нибудь с этим приятным молодым человеком, с которым ты училась в профтехучилище. Как бишь его зовут?
— Андреас, — сказала я.
Сельма спросила оптика, что означает enormous population density, и оптик сказал:
— Чрезмерная плотность населения.
Речь шла о Нью-Йорке. Оптик покупал согревающий пластырь для поясницы, поставщик катил свою покрытую серым брезентом каталку к магазину лавочника, а мой отец приехал в гости, он привез мне кривую саблю, которую я передарила господину Реддеру.