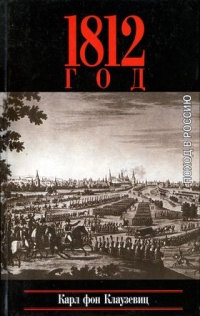Книга 1812. Они воевали с Наполеоном - Василий Верещагин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Нужно торопиться: каждую минуту пламя около него усиливается… Он спускается к реке, откуда узкая извилистая улица идет к выходу из этого ада.
Как есть, пеший, он бросается в страшный огненный проход и идет среди треска этого бесконечного костра, среди грохота рушащихся сводов, падающих балок и раскаленных листов железа с крыш – такие груды всего лежали на пути, что трудно было двигаться. Пламя, уничтожавшее здания, мимо которых он проходил, возвышаясь с обеих сторон улицы, сгибалось над головою в настоящую огненную арку; он шел по огненной земле, под огненным небом, между огненными стенами!
Все пронизывающий жар жег руки, которыми приходилось закрываться. Удушливый воздух, искры, головни и громадные языки пламени захватывали ему дыхание, сухое, прерывистое.
В этом невыразимо отчаянном положении, когда только одна быстрота могла спасти, проводник, видимо заблудившийся, остановился; тут бы, вероятно, и окончилась карьера Наполеона, если бы солдаты, мародеры первого корпуса, не узнали своего императора, не подбежали бы на выручку и не вывели его на свободное, уже выгоревшее место.
Даже теперь при воспоминании об этих тяжелых минутах он невольно содрогнулся и, несмотря на новую надвигающуюся грозу, на множество устремленных на него глаз, ждавших его решения, его слова, не мог оторваться от нити воспоминаний…
Невольно приходило ему на память, как на другой день, рано утром, взглянув на Москву из Петровского дворца, он увидел, что пожар еще усилился и весь город представлял уже один необъятный столб огня и дыма.
«Это сулит нам большие, большие беды!» – подумал он тогда.
Страшное усилие, сделанное для того, чтобы захватить Москву, потребовало всех наличных средств; Москва была окончанием всех замыслов, целью всех стремлений и надежд, и эта Москва теперь пропадала, улетучивалась. Что предпринять? Он недоумевал, колебался. Он, который сообщал свои планы самым близким людям только для беспрекословного исполнения, принужден был теперь советоваться.
Наполеон предлагал маршалам идти на Петербург, но они отвечали, что время года слишком позднее, дороги дурны, продовольствия нет, поэтому предпринять этот поход немыслимо. Уговоренный, но не убежденный, он ни на что не решался, колебался, мучился…
Он так рассчитывал на мир в Москве, что даже не заготовил настоящих зимних квартир, и теперь не мог решиться на новую битву, так как она открыла бы всю операционную линию, покрытую больными, ранеными, отсталыми, загроможденную обозами. Самое же главное: он не мог расстаться с надеждой, для которой столько пожертвовал, что письмо, посланное им Александру, уже прошло через русские аванпосты и, может быть, через какую-нибудь неделю он получит желанный ответ на его предложение мира и дружбы.
Его репутация, его обаяние были еще не тронуты тогда – как было не верить в возможность хорошего исхода! – тогда он еще держался, не отступал, не бежал, как приходилось делать теперь!
Под тяжестью воспоминаний обо всем этом Наполеон до того смутился духом, что от него долго не могли добиться ни одного слова; только кивками головы отвечал он на самые настойчивые напоминания, требования приказаний и распоряжений.
Он лег в постель, он не мог сомкнуть глаз и всю ночь то вставал, то снова ложился, призывал, расспрашивал, советовался.
Только что взошло солнце, он сел на лошадь и поехал к Малоярославцу. Четыре эскадрона кавалерии, составлявшие его обыкновенный конвой, не будучи вовремя предупреждены, запоздали выездом. Дорога была загромождена больничными фурами, зарядными ящиками, каретами, колясками и всевозможными повозками…
Вдруг влево показались сначала несколько отдаленных групп, потом целые массы кавалерии, от которой с криком без оглядки бросились бежать по дороге женщины и разный нехрабрый люд, наводя панику на всех встречных…
То были казаки, налетевшие так быстро, что император, не понявший, в чем дело, остановился в нерешительности. Генерал Рапп быстро схватил его лошадь под уздцы и, повернув назад, закричал: «Спасайтесь! это они!» Наполеон успел ускакать, но лошадь Раппа получила такой удар казацкой пикой, что повалилась вместе с генералом. Подоспевшие эскадроны конвоя выручили императора со свитою; казаки ускакали так же быстро, как и налетели; занявшись грабежом, они не разглядели действительно богатой добычи, попавшейся было к ним в руки.
Бравый Рапп рассказывал после, что, увидев его окровавленную лошадь, Наполеон спросил, не ранен ли он, и на ответ: «Не ранен, а только ушибся», – принялся хохотать. «Признаюсь, – говорил генерал, – мне было не до смеха!»
Поле битвы под Малоярославцем оказалось поистине ужасным. Город, до 11 раз переходивший из рук в руки, был стерт с лица земли: различить улицы можно было только по рядам трупов, их устилавших.
На развалинах обгоревшего собора видна еще была надпись: «Конюшня генерала Гильемино».
Поздравив вице-короля с блистательным делом и лично убедившись в том, что русские с лихорадочною поспешностью работали над укреплением своей позиции, Наполеон воротился в городненскую избу, куда за ним последовали Мюрат, принц Евгений, Бертье, Даву и Бессиер; таким образом, в этой маленькой, темной, грязной избенке собрались один император, два короля, несколько герцогов, маршалов для решения участи Великой армии, а с нею и Европы.
Посредине избы на лавке сидел Мюрат, около него стояли маршалы. В углу за столом, под образами, – Наполеон, подпирая руками голову, скрывая страшную тревогу и нерешительность, написанные на лице. На столе – походная чернильница, карта и знаменитая шляпа с перьями Мюрата; на скамьях – портфель и свертки карт; на полу – разорванные конверты, обрывки донесений, докладов…
Тяжелое молчание воцарилось в избе. Предстояло решить безвыходную задачу: как идти к Смоленску, каким путем?
По Калужской ли дороге, пролегавшей еще нетронутыми местами, полными всяких запасов, но защищенными всею русскою армией – в чем теперь уже не было сомнения, или через Можайск, на Вязьму, по старому, выжженному, зараженному пути?
Долго длилось молчание. Наполеон давно уже перебрал в уме все шансы на успех в том и другом случае и не мог прийти ни к какому заключению. Глаза его блуждали по разложенной перед ним карте и сотый раз останавливались на главном пункте столкновения обеих армий, но мысли невольно уносились далеко, к давно пережитому, к Москве, к Александру и своим попыткам заключить с ним мир…
Вспоминались унижения, которые ему пришлось испытать с этими попытками посылок Александру писем с предложениями дружбы, писем, оставшихся без ответа…
Под впечатлением этой обиды он снова предлагал своим маршалам сжечь остатки Москвы и идти на Петербург; он старался воспламенить их воображение перспективой величайшего военного подвига.
«Подумайте только, какою славою мы покроемся, – говорил он, – и как возвеличит нас мир, когда узнает, что в три месяца мы покорили обе северные столицы!» Но маршалы-герцоги снова представили ему, что ни время года, ни состояние дорог, ни запасы провианта не дозволяют предпринять этого тяжелого похода: «Зачем идти навстречу зиме, которая и так уже близка! – говорили они. – Что будет с ранеными? Придется бросать их на произвол Кутузова, который, конечно, пойдет следом; придется атаковать и защищаться в одно и то же время, побеждать и бежать!»