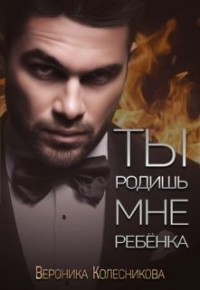Книга Энигма-вариации - Андре Асиман
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Завтра не может быть последним нашим днем вместе, — сказала она.
— Да, но я прямо боюсь, что ты будешь думать обо мне после сегодняшнего вечера.
— Погоди, нам еще предстоит услышать, что ты думаешь обо мне!
— Ты о чем?
Она вздернула плечи, резко расслабила, а потом, будто передумав, снова их напрягла. После чего опять округлила спину, и меня опять это тронуло. Нужно мне было раньше заподозрить недоброе. Скованность охватила ее сразу после ухода с озера. А теперь, на подходе к гостинице, чувствовалось, что она хочет шагать дальше и дальше. Меня же нервировало одно: что сам я совсем не волновался. Соединиться с ней мне захотелось еще тогда, на озере, будет жалко, если порыв иссякнет втуне. Очень будоражил образ стеклянного осколка, голой коленки, ее жестоких губ цвета синяка, которые едва ли не улыбались, пока она рассекала плоть — а я так и оставался внутри. Вспомнит ли она это — лучше, чем со всеми, кого она знает? Захочет ли стать сдобной булочкой, попросит ли смотреть ей в глаза, пока мы вместе кончаем?
— Честно говоря, я как-то немножко разучилась, — сказала она наконец, видимо, прочитав направление моих мыслей. Мы сидели на одном краю кровати, одетые. Она поигрывала с манжетой блузки, высунувшейся из-под рукава кардигана, и не выказывала ни малейшего желания его снять.
— В смысле — разучилась? — уточнил я, усомнившись, правильно ли понял.
Она пожала плечами.
— Мы вместе не спим. В смысле спим-то вместе, но не в этом смысле — ну понимаешь?
— Ничего?
— Так, порой, но, в общем, нет.
Она подняла лицо, взглянула на меня.
— Иногда я забываю, что людям положено делать вместе. И зачем они это делают. А кроме того, не уверена, что сумею сделать это для тебя.
Я не удержался, протянул руки, сжал ее лицо и начал целовать, снова и снова. Хотелось обнять ее, хотелось обнять ее обнаженное тело, ни о чем ином я не просил. Прижаться к ней в постели, поцеловать, целовать снова и снова, пока мы не погрузимся либо в секс, либо в сон. Она молчала. А потом — ни с того ни с сего:
— Смущаюсь, прямо как девственница, и с кем? С тобой.
— Уж если ты девственница, то кто тогда я? — произнес я, пытаясь показать, что и у меня есть основания к скованности.
— Такая вот у нас тяжелая эротическая травма? — спросила она, зная заранее, что я помню фразу, над которой мы все посмеялись тогда, за ужином с Манфредом и ее мужем, — теперь от этих слов неожиданно повеяло мрачностью.
— Мне кажется, у каждого есть та или иная эротическая травма, — сказал я. — Не могу вспомнить никого, у кого бы ее не было.
— Возможно. Но у них не такие, как у меня.
Я встал и раздернул шторы, чтобы получше рассмотреть университетский дворик. Гостиничный персонал почему-то твердо убежден, что ночью все шторы должны быть плотно сдвинуты. Вид мне понравился. Чтобы получше рассмотреть, я погасил ночники у кровати. Белизна повсюду, а за пределами белизны — серые очертания домов со слуховыми окнами. Вон оно, озеро, вот дворик, потом — склон, ведущий к этому ненаглядному домику, который превратили в «Старбакс», дальше — бар, где мы едва не заказали по бренди, прежде чем встать и уйти, а там, дальше, — обсерватория Ван Спеера с тихой ее библиотекой, которая работает всю ночь, — вот и сегодня там, как много лет назад, мерцают огни. Последнюю нашу общую зиму мы провели в этой библиотеке: сразу после ужина отправлялись в обсерваторию, а возвращались далеко за полночь и всегда впадали в нерешительность на подходе к ее общежитию, а потому замедляли шаг, пересекая двор, и давали фонарям имена девяти муз.
Глядя наружу, на тихий дворик, я вдруг подумал, что мы, пожалуй, углубились в прошлое дальше, чем следовало, потому что и в самих себе, и в своих телах мы вдруг обнаружили даже большую робость и беспомощность, чем в былые времена. Неужели мы вновь стали девственниками? Или, быть может, мы просто из тех, кто умер раньше срока и получил от некоего малого божества второй шанс, правда, с таким количеством оговорок, что новая жизнь выглядит всего лишь отсроченной смертью?
— Знаешь, тебе стоит подойти посмотреть, — сказал я.
Она подошла и встала рядом возле окна. А потом, оглядывая залитый лунным светом и заснеженный простор, долго повторяла одно слово: «изумительно, изумительно, изумительно» — не потому, что вид был такой уж выдающийся, а потому, что в этом сияющем мире «Итана Фрома» ничего не изменилось за сто с лишним лет, вот и мы с ней, по сути, не изменились с тех пор, как были здесь в последний раз. «Обними меня, — услышал я ее голос, — просто обними». Я обхватил ее руками. Мы стояли неподвижно, а потом она обвила меня рукой за пояс. А я притянул ее еще ближе, захотелось дотронуться до ее кожи, и я, без единой мысли, начал расстегивать рубашку. Она мне не помогала, да и свою блузку расстегивать не спешила. Только произнесла: «Мне всегда нравился твой запах». Я снял рубашку и хотел помочь ей раздеться. «Просто помоги мне забыть, как сильно я нервничаю, — сказала она. — Смотри, прямо вся дрожу». Она попросила выключить свет в ванной и погасить маленький ночник. Когда я спросил насчет предохранения, она ответила, что меньше двух лет назад ей еделали операцию и детей у нее больше не будет. До того она не обмолвилась об этом ни словом. Могла тогда умереть, а я ничего бы и не узнал. Я погрузился в ее тело, думая про ребенка, которого у нас никогда не будет. Она не просила на нее посмотреть, остаться с ней, но сжимала мое лицо, будто бы отчаянно пыталась поверить, что мы действительно в постели вместе, ждала, когда взгляды наши пересекутся, прежде чем сбросить настороженность, а с ней и привычки, приобретенные с другим. «Что-то я скованная, знаешь, — сказала она. — Дай мне минутку, моя любовь».
Спать потом не хотелось. Мы едва не расхохотались, сообразив, что оба не успели до конца раздеться. Снимая с нее оставшиеся одежки, чтобы посмотреть на нее обнаженную у окна, я чувствовал себя так, будто раздеваю не женщину, а ребенка, который не хочет ложиться спать, однако не сопротивляется, потому что ему пообещали рассказать еще одну историю.
— Меня так давно не раздевал мужчина, — сказала она.
— А я так давно не прикасался к женщине.
— И когда именно в последний раз? — уточнила она, вставая, а потом ушла в ванную и вернулась, завязывая халат.
— Кажется, с Клэр.
— С той, которая всегда молчит? — воскликнула она, явно озадачившись. — А почему с Клэр?
— Как-то само вышло.
Я уселся голым на разобранную постель, подхватил с пола свитер, набросил. Она уже сидела рядом, закинув ногу на ногу. Я последовал ее примеру. Мне нравилось, что мы говорим вот так, полуодетые.
— Давай-ка спрошу одну вещь, — сказала она, будто бы все еще обдумывая вопрос, который никак не облекался в слова. Меня это раззадорило — что-то в этом «давай-ка спрошу одну вещь» показывало, что она прочитала ответ задолго, очень задолго до того, как поставить вопрос. Какая-то часть души сознавала, что по телу еще гуляет возбуждение. Как же мне все это нравилось. Она хотела услышать от меня правду, а правда требовала возбуждения.