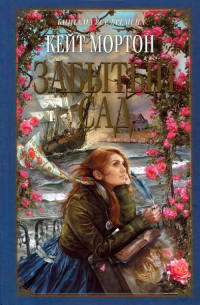Книга Дед - Михаил Боков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Звали меня в Новгород – в губернаторский аппарат. Говорили: пару годиков поработаешь и, глядишь, двинут тебя дальше по административной части в большой город. Да только на что он мне? Что я там буду делать? Сталь, бетон… А у нас выходишь на откос, а внизу речка, Дубенкой зовется. И по обеим сторонам – песок, чистый-чистый, золотой-золотой. И такой на откосе воздух, такими разнотравьем и пряностями ударяет в голову, что хочется плакать – от счастья и от грусти. От счастья, потому все это есть. А от грусти, что однажды с этим придется навсегда проститься.
Про проститься Ганин кое-что понимал. Его в Москве ждала девочка пяти лет. В доме с его дочкой жил другой папа. Вокруг нее грохотала перенаселенная, жестокая, азиатская Москва. За ним самим тянулся тридцатилетний хвост неудач, вялой эрекции и нытья. И он отчетливо представлял себе: однажды весь этот бег закончится. Груды костей, которые он отрыл, перезакопал, кости, которые рассыпались в его руках как труха, кости, которые выскакивали из земли и белели, еще крепкие, не оставляли в этом сомнений. Хорошо бы подбить к финишу все результаты. Прийти счастливчиком. С выигрышным билетом в руке. В свой последний раз вздохнуть спокойно: все узлы распутаны, и девочка – вот она, стоит и держит тебя за руку. Может быть, плачет. А тот мужик валяется, измудоханный, весь в крови. Папа… Какой он ей, к черту, папа?
Ганин не стал делиться своими соображениями про прощание. Вместо этого спросил:
– Про большой город – это правда? Не поедете, если выпадет шанс?
– Правда!
– А если я вас позову?
Галя посмотрела на него и рассмеялась.
– Вы случайно не надумали на мне жениться, Андрей?
– Случайно надумал.
В конце концов, он никогда не сомневался, что нравится ей. Ее губы были близко, вечерело, и звуки пьяной вакханалии были их любовной песней. Сейчас он поцелует ее, а потом… Лес замер. Птицы замолкли. Луна ухмыльнулась. А потом Ганин вспомнил про недавнюю пощечину и остановился.
– Знаете, Галя, – сказал он. – Насколько я насмотрелся на людей – все хотят в большой город.
Луна плюнула в него желтым и липким. Деревья фыркнули. Трава-мурава зашелестела, и в этом шелесте Ганин отчетливо уловил обидное слово «дурило». За спиной внезапно пробудившийся Серега Солодовников заорал в космос: «Че, ё-мое!»
По правде говоря, так оно все и было. Про большой город и про Москву. Люди хотели перебраться в город, люди ненавидели его и от этого хотели еще больше. И так на памяти Ганина было всегда. Даже Серега Солодовников, побывав в Москве один раз проездом в детстве и сильно от московской гари и грохота очумев, иной раз спрашивал: «Ну, и как там белокаменная, Андрюха? А ежели я к тебе приеду?» Причем год от года эти вопросы раздавались чаще – видимо, в родной деревне Серега сходил с ума еще сильнее, чем некогда в чадящей Москве. А может, просто баламутили его картинки красивой жизни: вот белый лимузин подъезжает за Серегой к казино, вот небрежно сует он крупную купюру за отворот рубашки шоферу, вот столичные штучки манят пальчиками с наманикюренными ноготками: идем, Сереженька, идем к нам. Ганин мог только догадываться, что было на уме у парня, когда он спрашивал про Москву.
На полях к столичным относились со злобой и завистью. Называли мажорами, всегда подходили оценить экипировку, одежду, цацки, а затем в кругу своих брезгливо цедили: «На таком экипе я могу что хочешь выкопать. Это ж Москва». При случае пытались унизить – с Ганиным этот номер закончился быстро. Но потом, сидя на совместных пьянках, всегда блестели алчными глазами: «Как столица, брат? Деньги водятся?»
В Москву хотели полисмены, чиновники, трактористы, все-все-все. И вот надо же такому случиться – нашелся человек, который в Москву не хотел.
– Вам надо поставить памятник, Галя, – сказал Ганин. – Если только вы не лукавите.
– А вам, Андрей, надо дать первый приз – за галантное обращение с девушками. Мы с вами знакомы неделю, и за это время я уже и глупенькой у вас побыла, и лукавой, и не припомню какой еще.
Ганин рассмеялся и предложил.
– Может, перейдем на ты? Раз уж мы стали так близки.
– Может быть, – согласилась Галя.
– Ты хорошая, Галя. По крайней мере такой кажешься.
– Новый комплимент?
– Московское обольщение.
Ганин хотел шутливо приобнять девушку за талию, но снова вспомнил пощечину и передумал – еще не так поймет. Они гуляли до поздней ночи. Ганин звал Галю купаться в ручье, Галя отказывалась. Ганин пугал ее, что полезет тогда один, обнаженный, говорил, что это такая московская мечта – искупаться голым летней ночью в чистом ручье. Галя смеялась, крутила пальцем у виска. Ганин миллион раз хотел поцеловать ее, но не решился. Над ручьем появились светящиеся точки – светлячки, и он подумал, что это волшебство. Так и сказал себе: «Срань такая, это же волшебство!»
Танк, казалось, смотрел с укором: на кого, дескать, оставляете, добры молодцы?
Эмчеэсники провожали их компанию и вслед смеялись.
Посмеяться было с чего: больше всего их группа была похожа на тянущих лямку репинских бурлаков. Хуже всего было телевизионщикам. За два дня на солнце они обгорели практически до ожогов – это были уже не красные, как у Сереги, а пурпурные лица.
От выпитого накануне Игоря безостановочно рвало. Он шел, покачиваясь, и ботинки его были забрызганы съеденной вчера колбасой. Игорь этого не замечал. Время от времени его мотавшееся из стороны в сторону обезвоженное тело издавало стон.
Его коллеги по телевизионному делу выглядели не лучше. Тренога под камеру погнулась безнадежно. Саму камеру нужно было тащить, а вместе с ней – целый ворох проводов, микрофонов и осветительных приборов. Телевизионщики поругались уже на стадии выяснения, кому что нести. Искалеченную треногу решили выбросить к чертям собачьим. «Дома нас за нее прибьют», – раздался было слабый голос, но протестующего быстро переубедили: «Знаешь что, Юрик, тащи тогда эту дуру сам!»
Чтобы не умереть от солнечного удара, телевизионщики повязали на головы майки. Вереницу несчастных созданий возглавлял Серега. За ним ковылял Степан, бледный как мел. Ганин, Галя и Виктор Сергеевич шли особняком. Видимо, по причине того, что накануне не принимали участия в разгуле и разговаривать со страдальцами было особенно не о чем.
– Сколько я этой водки выпил, – проскрежетал, поравнявшись с ними, Степан. – Но такой бодун, как сегодня, в первый раз…
Ганин подумал, что даже водку губернатор не смог прислать нормальную. Передал дешевую сивуху, причем обставил это так же, как веками обставляли государевы люди, имея дело с простыми людьми, – с радушной улыбкой: родные мои, нате, пользуйтесь!
С такой же улыбкой белые братья подносили аборигенам одеяла, зараженные оспой, казаки чукчам – огненную воду, от которой у них не было иммунитета, и во все времена дарители улыбались шире некуда, поднося смерть на блюдечке. «Ничего в мире не поменялось, – с грустью подумал Ганин. – Старые приемчики продолжали действовать безотказно».