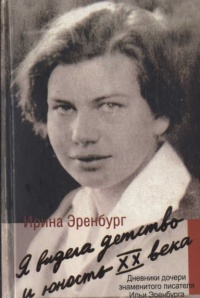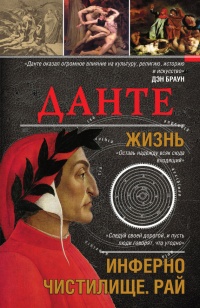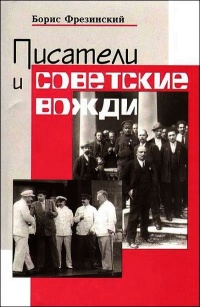Книга Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга - Юрий Щеглов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Добрейшая женщина — актриса и переводчица Орыся Стешенко, дочка министра Центральной Рады, проклинаемой большевиками, Ивана Стешенко, расстрелянного ими же в 1918 году, и внучка основателя украинского театра Михаила Старицкого, дала весьма продуктивный совет:
— Вместо того чтобы драться, возьми зеркало, открой рот и попытайся дрожать кончиком языка на выдохе. Не ленись, возможно, и получится. Повторяй слова с буквой «эр». Воробей и кукуруза, кукуруза и воробей. Сто раз повторяй, двести.
Сердобольная тетя Орыся мне сочувствовала еще и потому, что я предпочитал говорить по-украински вне школы. Русский я тоже знал, но родней был украинский. С тетей Орысей мы беседовали только по-украински. Мальчишкам не нравилось, когда я, забывшись, переходил на него. «Не коверкай, сука, язык. Говори, жидюга, по-русски».
Мне было противно повторять слова, которые служили источником постоянных мук, и я выбрал самостоятельно для упражнений знакомые звукосочетания: Эренбург и контрреволюция. В них содержалось то, что нужно. Тетя Орыся долго смеялась, но похвалила.
— Эренбурга я знала в Киеве девушкой. Он не любил революцию. Читал стихи против большевиков и выступал с лекциями. Потом его, по-моему, арестовали белые. Ты произноси эти слова, когда в комнате никого нет. И мать не волнуй!
Через десятки лет я узнал, что буква «эр» в фамилии Ильи Григорьевича привлекла не только меня, но и Марину Цветаеву, а уж она в фонетике кое-что понимала. В стихотворении «Сугробы», посвященном Эренбургу, Марина Ивановна писала:
И в конце Марина Ивановна — за десять лет до моего рождения — будто прямо обращалась ко мне, проживающему в семипалатинском доме по улице Сталина, 123, чтобы поддержать колоссальные усилия, которые не каждому по плечу:
Картавить я отучился без чьей-либо помощи за месяцы преподанных себе уроков, врезав в память поглубже знакомую по волнующим событиям фамилию, выученную с обложки.
В одно прекрасное утро — действительно для меня прекрасное! — я проснулся, чувствуя, что внутри произошли какие-то изменения.
Я еще не знал — какие? Мать в госпитале, сестренка ушла. Во дворе я встретил слесаря Ахмета и первым поприветствовал его:
— Здр-р-р-раствуйте!
Боже милостивый! Я правильно выговорил букву «эр». Я побежал в госпиталь, чтобы со всеми встречными-поперечными поздороваться. Я здоровался даже с незнакомыми на улице. Я целый день рычал. Я не буду описывать своих переживаний.
Я был счастлив! Как никогда!
Я побежал к Ирине Ивановне, забрался на карниз и крикнул в окно бельэтажа:
— Здрр-р-авствуйте, тетя Ор-р-р-рыся!
Я навсегда полюбил Эренбурга и контрреволюцию. Они меня спасли от «мильена терзаний».
Из Экклезиаста
В сумерках отправились на дело без всякого волнения, спокойные и убежденные в собственной правоте и в том, что нас поджидает удача. Вот какую силу имеет невинный поцелуй, сорванный в пустынном коридоре!
Полуторка с зеками благополучно вылезла из ворот и скрылась за углом. План наш был и хитроумным, и выполнимым. Женя двигалась со стороны университета, а я — от улицы Дзержинского — будь он неладен! Лично к Феликсу Эдмундовичу у меня не существовало претензий, но все-таки присутствие его фамилии в истории с зеком не может не вызвать усмешки. Сближались мы медленно и осторожно. Сверток с блинчиками и пирожками находился у Жени под мышкой.
— Так разумнее, — решил я. — От девушки подарок менее подозрителен.
Вечерний свет наливался сапфировым оттенком. Снежная пороша поскрипывала под подошвами. Я совершенно не боялся, не трепетал и только прикидывал, каким образом подать сигнал зеку издали, что несу передачу. Но никаких сложностей не возникло. Зек и конвойные стояли у ворот и, покуривая, беседовали. Завидев меня, зек махнул ладонью: мол, привет! — не тушуйся! — все путем! Хотя я и поразился перемене в поведении конвойных, но все же, опасаясь предательства или подвоха с издевочкой, подошел сперва один, не таясь. Женя задержалась поодаль.
— Как дела? — спросил зек. — Как насчет картошки дров поджарить?
— Дела ничего, — ответил я, — а с картошкой попал в точку.
Теперь приблизилась и Женя. Я у нее взял сверток.
— Это тебе, — сказал я и протянул его зеку.
Он не сразу принял, долговато смотрел недоверчиво. Мелькнуло — не заподозрил ли провокацию? Подложные документы, оружие или еще чего-нибудь в детективном духе.
— Что здесь?
— Почти картошка. Мировая закуска к тому, что я принес давеча.
— Бутылочка тю-тю, — и он засмеялся. — Ничего на донышке не осталось. Теперь нас трое.
— Шамовка никогда не лишняя, — сказала Женя, выдернула у меня сверток и сунула в руки зека: почти насильно.
Мы убежали, не оглядываясь. На следующий день я подошел к воротам один, предварительно поклявшись Жене, что пойду прямиком домой на улицу Дзержинского. Я хотел узнать имена зека и конвойных. Казалось как-то неловким общаться без обращения. Не собаки же мы, и получил своеобразный ответ:
— Зачем тебе? Лишнее знание умножает печаль.
Я не удивился знаменитым словам Экклезиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме, услышанным из зековских уст. Библию я к тому времени знал неплохо для советского студента, не на память, конечно, но употребляемые в обиходе ветхозаветные истины мог всегда отнести к конкретному источнику. К Священному Писанию меня приучила няня, таская на службу по воскресным дням во Владимирский собор напротив Ботанического сада. У нее под подушкой хранилась пара затрепанных брошюр. Любимое чтение: Псалтырь. По нему я постепенно и приучался к русскому языку. Любимый псалом — 145-й. Разбуди ночью — отбарабаню без ошибки от «Хвали, душа моя, Господа» до «Господь будет царствовать во веки; Бог Твой, Сион, в род и род. Аллилуия». Засыпая, я нередко повторял про себя, как Господь разрешает узников, отверзает очи слепым, восставляет согбенных, хранит пришельцев и путь нечестивых извращает. Это все было про меня. Когда мать обнаружила случайно, куда мы с няней ходим по воскресениям, Священное Писание было разоблачено моментально, чтение Псалтыри прекратилось. И Экклезиаста — тоже. Но интерес не угас. Нет-нет да загляну в затрепанную брошюрку. Война выбила из меня нянины поучения, и без Псалтыри я начал изъясняться по-русски.
— Что у тебя в голове? — как-то спросила мама. — Ты отдаешь себе отчет в том, что Бога нет?
Мрачное молчание было ей ответом. А в голове у меня просто окрошка. Окрошка окрошкой, но фраза из Экклезиаста: кто умножает познания, умножает скорбь, засела в бедной головке одной из первых. Я не уверовал тогда в Бога, но от Библии не отворачивался. Имел ее в школьные годы и украдкой почитывал.