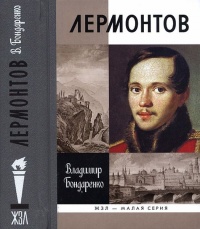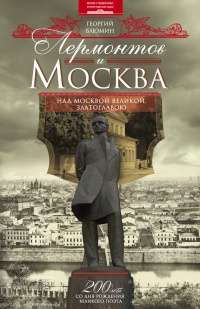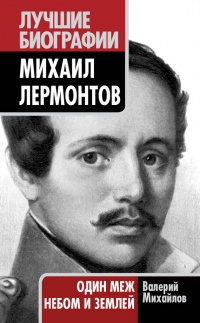Книга Лермонтов - Алла Марченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
При явной стихийности возмущения восставшие действовали словно бы по одному плану: нападали внезапно, убивали всех подряд. Особенно впечатляюще выглядел «штурм» Старой Руссы, в которой, как я уже упоминала, находился штаб армии. У повстанцев – ничего, кроме топоров и камней, но среди защитников города – свои: знакомые, односельчане, а то и родственники, а они вооружены. Еще не решившись на штурм, мужики мирно переговаривались с солдатами. Все это выглядело столь странно, что командующий армией генерал Леонтьев никак не мог решиться отдать приказ стрелять. Тогда какой-то артиллерийский капитан решил действовать сам, но тут же получил удар по голове. Ободренные «победой», поселяне кинулись на мост, солдаты делились с ними оружием, офицеры пытались остановить их, напоминая «о святости присяги», но тут же были заколоты. Генерал Леонтьев был также изрублен, а один из мятежников, надев его мундир, ордена и ленту, вывел из конюшни генеральскую лошадь и, держа в руках свернутый в рулон лист пустой бумаги, разъезжал по деревням, объявляя народу, что прислан государем с приказанием уничтожить дворянство.
Офицеры, кадровые, профессиональные, растерялись до такой степени, что не знали, на что решаться: полки были в половинном составе – и притом из рекрутов, взятых из местных же крестьян. Случай со штурмом Руссы показал, что они абсолютно ненадежны. Впрочем, нашлись и решительные, например командир пятого карабинерного батальона полковник Толмачев. Его батальон не останавливался в деревнях. При подходе к деревне Толмачев разбивал лагерь и высылал «послов» из старых, не местных солдат с требованием выдать такое-то и такое-то количество припасов и с угрозой: в случае неисполнения – поджечь деревню. Благодаря такой тактике карабинеры благополучно прошли через мятежные районы, правда, предусмотрительно приказав вынуть кремни из ружей у молодых солдат, тех, что были родом из новгородских мест. Так они дошли до мятежного Перегино, но там уже и не пахло мятежом. На жителей напал ужас перед содеянным: им не давали уснуть доносившиеся с кладбища стоны «убиенных», и теперь они сами уходили в леса, спасаясь от «голосов». На всякий случай Толмачев расставил по окрестным помещичьим усадьбам посты из карабинеров во избежание новых эксцессов. Но массовых возмущений уже не было.
В середине августа из Петербурга прибыл граф Орлов, высший полицейский чин в государстве, в будущем – преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов, и началось по показаниям новгородского Бонапарта, то бишь полковника Толмачева, успевшего снять первое дознание, расследование причин возмущения.
Признанных зачинщиками забили кнутом, остальных сослали на каторжные работы. Через суд и расправу прогнали треть деревень, оказавшихся в «черте бунта». Расправа длилась до самой зимы. Карающая десница и та «устала», ведь карать надо было не только новгородцев, но и возмутителей спокойствия западных губерний…
4 октября 1832 года император через «Санкт-Петербургские ведомости» поставил своих подданных в известность, что для скорейшего покрытия забвением беспокойств, волновавших в минувшем году западные губернии, признал за благо тем из жителей сих губерний, кои не принадлежали к числу зачинщиков, явить знаки величайшего милосердия.
Итак, бунт был подавлен, точнее, исчерпал свою ярость прежде, чем правительство приняло серьезные меры для его подавления. Военные поселения были приведены к порядку, а через некоторое время практически устранены. А загадка, заданная новгородским возмущением, осталась…
Те, кто не привык заглядывать глубоко под поверхность событий, утверждали, что виною всему было лишение свободы, которое никогда не забывается народом. Но почему возмущение произошло не тотчас после того, как вольных хлебопашцев и предприимчивых промышленников превратили в «военных рабов», а столько лет спустя?
Другие уверяли, что причина, как и в прочих случаях, – страх холеры. Но и это предположение не разгадывало загадки: ни в новгородском округе, ни в старорусском не было зафиксировано ни одного смертного случая, «произошедшего от холеры».
Что касается мудрецов, те были убеждены: всему виною слишком жаркое лето. Лето 1831 года и вправду выдалось необыкновенное: сенокос и жнива совпали, мгла стояла в раскаленном воздухе, болота горели, «часов с трех дня солнечный диск представлял резко очерченный желто-красный круг без лучей»… В народе говорили, что все это не к добру, а старики уверяли, что такое случилось «перед французом»…
Не мог не задуматься над этой «русской загадкой» и восемнадцатилетний внучатый племянник погибшего в аналогичной катастрофе севастопольского генерал-губернатора Николая Алексеевича Столыпина.
Гениальным инстинктом Лермонтов почуял, что на дне севастопольской драмы скрывается новгородская, а в ней ключи от тайны пугачевского ужаса. Итогом этих размышлений и стал его первый опыт в формате «большая проза» – исторический роман «Вадим».
По литературоведческой традиции этот роман считается не конченным, неудавшимся, подражательным. По внешним данным (горб, уродство) главный его герой и впрямь «слегка смахивает» на Квазимодо – горбуна и калеку из романа Виктора Гюго «Собор Парижской богоматери». И это наверняка не случайное сходство. Утверждая (1830), что в русском фольклоре больше поэзии, нежели во всей французской словесности, Лермонтов не пренебрегал ее уроками. На такое предположение наводят, кстати, и его иллюстрации к «Собору…»: в ранней юности Михаил Юрьевич охотно иллюстрировал произведения, из которых мог хоть что-нибудь «заимствовать», – например, кавказские повести Марлинского. Но это, как уже говорилось, не столько подражание, сколько попытка понять причину беспрецедентного успеха и романа, и – шире – новой французской романистики с ее культом недопустимого с точки зрения классической гармонии скрещенья высокого и низкого, красоты и уродства. Несколько лет спустя неоромантическую сию смесь Лермонтов назовет безобразной красотой:
Постигнув, и очень скоро, и тайну, и таинство воздействия безобразной красоты, начинающий романист сделал еще одно открытие: при заимствовании поразивших воображение лиц и положений, зачатых в иноземной утробе (Бальзак), то есть при пересадке их на иную почву, они захирели, «скукожились». Бури страстей, обуревающих главных героев – горбуна Вадима, его сестру-красавицу Ольгу, ее возлюбленного Палицына-младшего, – и впрямь почти оглушают нас бессвязностью; бессвязности Лермонтов, мечтавший о совершенстве, не заметить не мог, в чем и признался в процитированном «манифесте».
Солидаризуясь с авторской самооценкой, Б.Томашевский объясняет причину неожиданного, в разгар работы, охлаждения Лермонтова к прозаическим опытам необычайно быстрым «вырастанием»: «…Ранние вещи, брошенные Лермонтовым, рисуют картину быстрого роста, быстрой смены литературных тенденций и стилей. Эта быстрота роста, возможно, и была причиной того, что все они брошены незавершенными… В процессе разработки замысла он его перерастал».