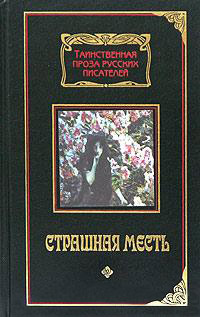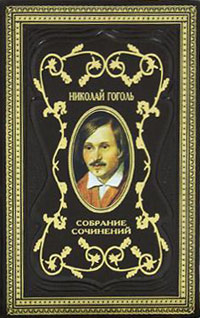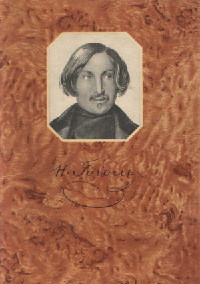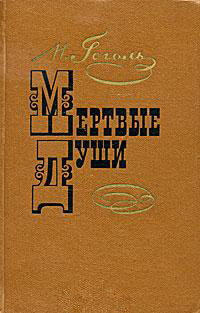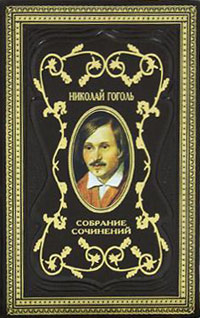Книга Повести. Том 3 - Николай Гоголь
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Непонятны только были причины, заставившие его сблизиться с кухмистером. Высокое ли уважение, которое Иван Осипович невольно чувствовал к его искусству, другое ли какое обстоятельство — мы этого не беремся решить. Довольно, что не прошло двух дней — и в Мандрыках воскресли Орест и Пилад нового мира. Но еще непонятнее была власть кухмистера над нашим педагогом, так что от природы скромный, застенчивый учитель, не бравший ничего в рот, кроме лекарственной настойки на буквицу и herba rabarbarum, невольно плелся за ним по шинкам и по всем закоулкам, куда разгульный кухмистер наш показывал только нос свой. Ивану Осиповичу нравилось романическое положение его местопребывания. Скоро осмотрел он обступившие в неровный кружок просторный господский двор — кухню, сараи, амбары, конюшни и кладовые, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темнозелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листам ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших. Но глаза нашего учителя искали своего предмета и лепились около не столь высокопарных жильцов сада, зато увешанных с ног до головы грушами и яблоками, которыми кипит роскошная Украйна. Отсюда продирались они к кухне, за которою стлались плантации гороху, капусты, картофелю и вообще всех зелий, входящих в микстуру деревенской кухни. Не без особенного удовольствия вошел он в чистую, опрятно выбеленную и прибранную комнату, определенную для его помещения, с окошком, глядевшим на пруд и на лиловую, окутанную туманом, окрестность.
Мы имели уже случай заметить нечто о влиянии нашего учителя на мандрыковских красавиц: потупленные взгляды, перешептывание, низкие поклоны показывали, что овладение им считала каждая из них немаловажным делом. Впрочем, не мешает припомнить любезному читателю, что на Иване Осиповиче был синий фабричного сукна сюртук с черными, величиною с большой грош, костяными пуговицами; итак, ему очень было простительно перетолковать в свою пользу перемигиванья чернобровых проказниц. Но, к счастью или несчастью, чувство, так много известное бедному человечеству, наносившее ему с незапамятных времен море нестерпимых мук, не касалось нашего педагога. В этом случае Иван Осипович был настоящий стоик и, несмотря на то, что не дошел еще до философии, он твердо знал, что ни один из философов, начиная от Сенеки, Сократа и до лектора ***ской семинарии, не ставил ни во что причудливую половину человеческого рода; ergo, любви не существует. Такие положения, обратившиеся у него, наконец, в правила, были тверды, слишком тверды… Homo proponit, deus disponit говаривал часто лектор ***ской семинарии, отсчитывая удары линейкою ленивым своим слушателям; а потому и мы в следующей главе увидим небольшое обстоятельство, сильно поколебавшее философию учителя и надвинувшее облако недоразумения на ум его, доселе неуклонно шествоваший стезею своих великих наставников и бивший ровным пульсом в своей бутылкообразной сфере.
II.
Успех посольства
(Кухмистер, несмотря на собственную сердечную рану, внезапно полученную им при виде мывшейся на берегу пруда Катерины, решается исполнить данное им учителю обещание и быть посланником и представителем его страсти. С таким намерением отправляется он в хату козака Харька Потылицы).
Окончив туалет свой, Онисько не без боязни и тайного удовольствия переступил через порог. Бес как будто нарочно дразнил его (сам он после признавался в этом), поминутно рисуя перед ним стройные ножки соседки. „Эх, если бы не учитель!“ повторял он несколько раз сам себе: „ну, что бы задумать ему немного позже влюбиться?..“ И, в задумчивости, тихими шагами он мерял широкий выгон, по которому бежала его дорога. Разноголосный лай прорезал облекавшую его тучу задумчивости, и мысли его, как дикие утки, переполошась, разлетелись во все стороны. Подняв глаза, увидел он, что далее итти некуда. Перед ним торчали ворота, сквозь которые, как сквозь транспарант, светилось всё недвижимое имущество козака. Мелькнула синяя запаска, огненная лента… Сердце в нем вспрыгнуло… и белокурая красавица, разгоняя хворостиной докучных собак, встретила его, отворяя ворота.
Двор Харька представлял собою большой, на покатости к пруду, квадрат, обнесенный со всех сторон плетнем. Когда ворота были отперты, глаза ударялись прямо в чисто выбеленную хату с большими, неровной величины, окнами, с почерневшею от старости дубовою дверью, с низеньким из глины фундаментом (присьбою), обремененным, по обыкновению малороссиян, бельем, мисками и каким-нибудь инвалидом-горшком, которому, несмотря на раны и увечье, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями. По сторонам избы стояли с растрепанными крышами хлевы и амбары. Из-за хаты возвышалось гумно; из-за гумна еще выше подымалась голубятня, сверх которой уже ходили только одни облака и плавали голуби. К пруду, как богатая турецкая шаль, развернулся огород козака. Кучи соломы разнесены были по всему двору.
Катерина показалась немного удивленною приходом Ониська. Полагая, что его, без всякого сомнения, завлекла нужда к ее отцу, отворила вполовину только ворота и проговорила с некоторою застенчивостью: „Батька нет дома, да вряд ли и к вечеру будет“.
„Нехай ему так легенько икнеться, як з тыну ввирветься! Что бы я был за олух царя небесного, когда бы стал убирать постную кашу, когда перед самым носом вареники в сметане?“
Белокурая красавица остановилась в недоумении, не зная, как понимать слова его. Улыбка, вызванная наружу этою странностью, показалась на лице ее и ожидала, казалось, изъяснения.
Кухмистер почувствовал сам, что выразился не совсем ясно и притом помянул отца ее немного шероховатыми словами; он продолжал: „Нелегкая понесла бы меня к батьке, когда есть такая хорошенькая дочка“.
„А, вот что!“ проговорила Катерина, усмехнувшись и покраснев. „Милости просим!“ и пошла вперед его к дверям хаты.
Девушки в Малороссии имеют гораздо более свободы, нежели где-либо, и потому не должно показаться удивительным, что красавица наша, без ведома отца, принимала у себя гостя. „Ты пешком сюда пришел, Онисько?“ спросила она его, садясь на присьбе у дверей хаты и стараясь принять степенный вид, хотя лукавая улыбка явно изменяла ей и заставляла против воли показать ряд красивых зубов.
„Как пешком? — Что за нелегкая, неужели она знает про вчерашнее?“ подумал кухмистер. — „Без всякого сомнения, пешком, моя красавица. Чорт ли бы заставил меня запрягать нарочно панского гнедого, чтобы только перетащиться из одного двора в другой.“
„Однакож от кухни до коморы не так-то далеко.“
Тут, не удержавшись более, она захохотала.
„Нет, плутовка! сам лукавый не хитрее этой девки!“ повторил сам себе несколько раз кухмистер и громогласно послал учителя к чорту, позабыв и приязнь, и дружбу их.
„Однакож, моя красавица, я бы согласился, чтобы у меня пригорели на сковороде караси с свежепросольными