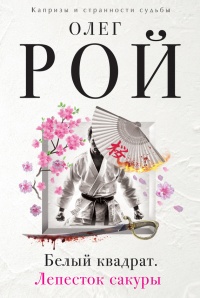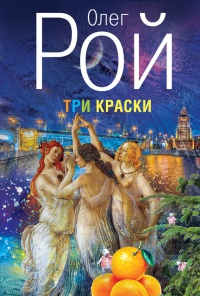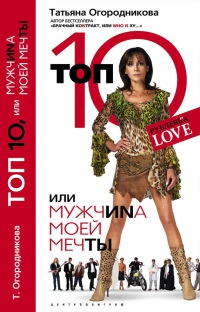Книга Погружение во тьму - Олег Волков
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
…Много лет спустя, в начале шестидесятых годов, несколько знакомых ученых усиленно уговаривали меня примкнуть к их туристской поездке на Соловки. Я отказался. Из-за ощущения, что этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество. Как посещают святыню или памятник скорбных событий, национальных тяжких дат. Как Освенцим или Бухенвальд.
Суетность туристской развлекательной поездки казалась мне оскорбительной, даже для моих пустяковых испытаний… Или следовало поехать? И указывать своим спутникам: «Здесь агонизировали мусаватисты… А тут зарыты трупы с простреленными черепами… Недалеко отсюда в срубе без крыши сидели зимой босые люди. Босые и в одном белье. А в летние месяцы ставили на комары… А вот тут, под берегом, заключенные черпали воду из одной проруби и бегом неслись вылить ее в другую… Часами, под лихую команду: «Черпать досуха!» — и щедрые зуботычины»…
На перепутье
Их можно было увидеть в любое время суток. Они слонялись по улицам, тянулись куда-те неторопливой вереницей или кучками, брели по одиночке. Волочащиеся ноги, медленное вышагивание выдавала отсутствие цели, надобности куда-то поспеть и более других признаков говорили о пришлости этих людей, отделяли их от остальных прохожих — горожан, занятых своим делом и собой. Да и одежда, узелки их, берестяные кошели и полупустые, домотканые мешки не позволяли усомниться в принадлежности этой многочисленной праздно; гуляющей братки, заполнившей улицы Архангельска, деревне. Деревне, еще обряжающейся в овчины, шубные «спинжаки», сшитые домашними портными; заячьи треухи, армяки; обутой в тяжелые яловые сапоги, сооружаемые на долгие годы; толстенные, негнущиеся катанки — изделия шатающихся меж дворов вальщиков; в кожаные необъятные калоши не то в веревочные чуни с оборами и даже в лапти… Словом — деревне упраздняемой, отчасти принадлежащей прошлому, изгоняемой новыми порядками.
Были то — потомственные русские мужики, преимущественно пожилые или среднего возраста, заросшие бородами, приземистые, широкоплечие, с тяжелыми, праздно висящими темными руками. Немало было и подлинных дедов — с лысым челом, клинышками редких бородок, худых, еле передвигающих непослушные ноги., На немощных плечах обвисли пудовые тулупы до пят; жилистые шеи обмотаны обращенными в шарфы бабьими платками.
Бабы встречались реже. Шли они почти всегда с уцепившимися за подол детьми, укутанными по-взрослому в шали, не то несли на руках малышей. Женщины эти брели тоже вразвалку, но робко, еще с большей, чем мужики, торопливостью уступали дорогу, жались в сторонку. И поражали своей отрешенностью, застывшим темным взглядом из-под низко повязанного платка.
Будь кому дело до этих пришельцев, досуг за ними понаблюдать, можно было бы заметить, что более всего их на улицах, выводящих к реке неподалеку от центра города. И если бы с проспекта Павлина Виноградова выйти, скажем, по Посольской, к Двине, то оказалось бы, что тут и протиснуться-то трудно. Всякий свободный промежуток заполнен толпой. Особенно густела она возле приземистого барака с вывеской Архангельской комендатуры ОГПУ. Люди ждали приема. Ждали сутками, неделями, месяцами. Так что и не всем доводилось дождаться.
Буксиры волокли по Двине караваны барж, паровозы — бесконечные составы товарных вагонов, условно называемых теплушками. Это по воде и по суше, из деревень всех российских губерний свозили крестьянские семьи. Выгружали их на пристанях, в железнодорожных тупиках, где только отыскивалось еще не занятое место. И оставляли под открытым небом. Размещать ссыльных было негде. Все мыслимые емкости в виде бараков, навесов, сараев были использованы под больных и умирающих…
Комендатура не справлялась с отправкой «с глаз долой» — в таежное безлюдье. Все деревни области были забиты до отказа — и тысячные этапы не рассасывались. Скапливающиеся орды мужиков обреченно толклись возле окошек комендатуры, ожидая вожделенных талонов, по которым можно было, выстояв бесконечные часы, получить «пайку» — с фунт непропеченного хлеба, сколько-то соленой рыбы и крупы.
Так что то были толпы не только грязных, завшивевших и изнуренных, но и голодных, люто голодных людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили в Двине глумливых сытых писарей и учетчиков, не буйствовали и не грабили. Понуро сидели на бревнах и камнях, усеявших берег, не шевелясь, часами, уставившись куда-то в землю, не способные сопротивляться, противопоставить злой судьбе что-либо, кроме покорного своего долготерпения…
Эти бедные селенья, Эта скудная природа — Край родной долготерпенья, Край ты русского народа!
Но ведь поднимался он некогда вслед за Разиными и Пугачевыми? Или то разжигал сердце разбойничий посвист — призыв, суливший грабеж?.. Или никакие цари и господа не умели так поразить страхом, как ленинские наглядные расправы?
Но я, когда протискивался сквозь эту молчаливость и покорность, более страшные, чем крики и ругань, не задавался подобными вопросами. И лишь всем существом сознавал свою долю вины, словно и на мне лежала ответственность за безысходность и мытарства этих опустошенных, утративших надежду толп.
Хотя бы из-за того, что у меня-то был кров, что я не был голоден и в комендатуре подходил к особому окошку, где дважды в месяц отмечались ссыльные, оставленные в городе и отпущенные жить на частные квартиры. Я проталкивался, прижимаясь к армякам и полушубкам с невольной опаской: как бы мне, попарившемуся в городской бане и сменившему белье, не подцепить заразную вошь! Нашлись в Архангельске знакомые, хлопотавшие о моем устройстве на работу, брат прислал все необходимое… У меня, наконец, есть кому писать и от кого ждать отклика. Этим же мужикам не от кого и неоткуда ждать помощи и сочувствия. Их выкорчевывали из родных гнезд, предварительно ограбив. Теплую одежду и обувь оставляли редко. Они лишены дома, родной стороны, корней — и это навсегда.
У забора сидит на земле мужик в крытой поддевке, очень затасканной и рваной. Руками, опертыми о колени, он охватил низко свешенную голову, словно хочет отгородиться от всего света, ничего не видеть и не слышать. Рядом с ним женщина в развязавшейся шали. Она склонилась над уложенной на рядне, укрытой лоскутным одеялом девочкой с бескровным лицом, синей полоской рта и плотно закрытыми веками в темных, глубоких глазницах. Мать что-то шепчет…
Чуть подальше кучка мужиков столпилась над неподвижным человеком в зипуне и растоптанных лаптях. Он растянулся на голой земле — во весь свой немалый рост. У меня на глазах он вдруг весь напрягся, точно хотел потянуться запекшими членами, да так и замер. И сразу окаменело лицо.
Ветхий мужик в полушубке с рваной полой торопливо стянул с плешивой головы треух, перекрестился. Вокруг — ни одного восклицания, ни единого вздоха. Живые стояли молчаливые, как бы безучастные… Их ведь и загнали сюда, на Север, умирать. Жди каждый свой черед.
В поздние сумерки, когда уже вовсе стемнеет и маленькая лампочка над крыльцом комендатуры слабо освещает плешинку опустевшего берега, скопища бездомных куда-то рассасываются. Остаются неподнявшиеся. Это мертвые или вконец ослабевшие, отбившиеся от своих или сосланные в одиночку. Земляки, пусть и бессильные помочь, не покидают своих до последнего часа…