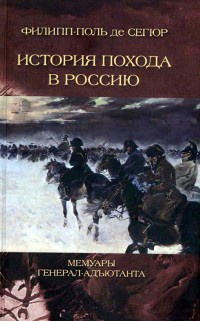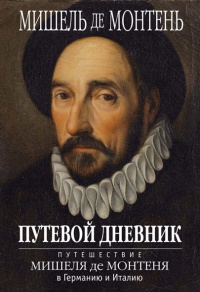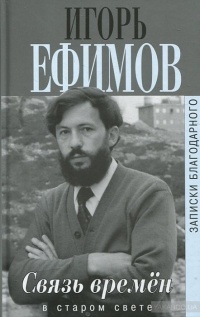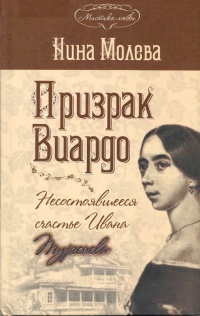Книга Вариант шедевра - Михаил Любимов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Боже, какая скука, как уныла жизнь, как одинакова, начиная с рева будильника ровно в семь. А разве не ужасно каждое утро рассматривать, сидя на стульчаке, один и тот же плакат, приклеенный скотчем к кафельной стене туалета? На картинке изображены торчащие из унитаза ноги в отглаженных брюках и черных штиблетах, туловища не видно, зато из бачка высовывается бородатая морда в очках. Пора на работу, о боже! не опоздать бы на спецавтобус, иначе ведь не добраться до нашей деревни. Овсянка, кофе, улица, толпа, метро, автобус, пропускной пункт, рукопожатия, служба, утро туманное, утро седое. Сейчас бы пива, но какой-то пентюх, кандидат наук, залез в кабинет, воняя носками, размахивает руками и упражняется в элоквенции по поводу моделирования оперативной деятельности, о которой он читал в «Шпионе» Фенимора Купера. Сейчас пива бы или холодного шампанского, чтобы умереть в Баденвейлере, как Чехов, прошептав «Ich sterbe» (я умираю), сейчас бы пива, и напялить никербокеры, и отправиться играть в гольф в Ричмонд-парк, сейчас бы на север…
Хотел на север, но начальство вдруг направило в командировку в Бейрут, дабы я взглянул на деятельность резидентуры с вершин Норманна Винера – мой первый вояж на Восток: Бейрут еще сиял, но лагеря с палестинцами, вооруженные «Калашниковыми», предвещали недоброе, война была на носу, и это у теплого моря, где через полчаса снежные горы и лыжи. Меня сводили на восточный стриптиз с юной египтянкой, окруженной важно сидевшими слонятами, там были не изможденные европейские девки с синевой под глазами… Красавица закончила танец, сорвала подвязку и швырнула в зал, попав прямо на наш столик (видимо, так задумали в ЦРУ). Этот волшебный дар, пахнувший миром и какими-то томящими, заглатывавшими с потрохами ароматами, я привез в Москву и положил в вазочку на холостяцкой квартире у отца, мы нюхали подвязку много лет, давали нюхать гостям – так и не вынюхали, запах был, карамба, неистребим.
Усните с Богом, господа.
Ода Бахусу, Дионисию и божественному пьянству
Ах, если в голове покойной
Иссохнет мозг – каким добром,
Как не божественным вином,
Нам заменить его достойно?
Когда же я напился в первый раз?
Когда же свершилось это чудо и кругом пошла голова?
Когда же вещий мой язык впервые затрепетал оживленно и начал выпускать из уст умную дурь?
Когда же провалилась земля, налились чугуном ноги?
Не в счет птичьи пробы из родительской рюмки во время домашних застолий, не в счет и первая бутылка вина со странным названием «Medoc», распитая в третьем классе с приятелем на Стрыйском рынке в Львове (хохотали мы жутко над дурацким названием, и лишь через десятилетия, отведав вволю из западных чаш, я обнаружил, что это не мед, который по усам течет, а прославленная бордосская марка).
Пожалуй, где-то в классе четвертом грянула первая масштабная пьянка, развернулась она в горных массивах, что тогда высились напротив львовской госбезопасности, и по той счастливой причине, что в нашем классе тихо и незаметно трудился племянник директора спиртозавода. Он был взят за бока и раздобыл драгоценного спирта, который мы, великолепная пятерка, особо не мудрствуя, рванули прямо в кущах. Веселие стояло неправдоподобное, но вскоре все мы, воздвигаясь и рушась, поднимаясь и опускаясь, замерли в неестественных позах на поляне. Будучи уже тогда Гераклом, я, как положено даже раненному разведчику, выполз из грязных ям и позвонил из телефонной будки отцу. На мой сигнал из папиного Смерша вмиг примчался дежурный «виллис» с вооруженными чекистами, нас сложили в одну кучу и развезли по еще не поседевшим от горя родителям. Слава отцовскому Смершу, творившему добрые дела в красивом желтом здании на вулицi Кадетской, а потом соответственно Гвардейской, усаженной роскошными каштанами! Прежде в доме том размещалось гестапо, и долго на фасаде его зияла выбоина от орла рейха, она вызывала у меня обидные чувства, даже когда ее зацементировали и закрасили: еле заметное гестаповское пятно унижало славный Смерш, предававший смерти всех шпионов, разрушавших страну Ленина – Сталина. В Смерше мне нравилось все: трофейные машины отца («ауди», «хорхи» и «опели»), ладные офицеры в гимнастерках с кобурой, из которой высовывалась рукоятка «вальтера» (эта марка была в моде), седой генерал, открывший день рождения отца словами: «За юбиляра мы еще выпьем, а сейчас давайте поднимем тост за товарища Сталина!»
Любил я и увитый плющом особняк с часовым у ворот (шла невидимая война с бандеровцами), яблоневым садом и овчаркой Дик, там я безжалостно расстреливал ворон и воробьев из духового ружья, и Дик приносил их к моим ногам, словно вальдшнепов на охоте в Шотландии, смотрел преданно в глаза и азартно вертел хвостом. В особняке нашем веяло благополучием ограбленного курфюрста: внизу – черного дуба огромная столовая, тяжелые резные буфеты, «горка», наполненная фарфором и безделушками, необъятный стол с кожаными стульями – надо всем ослепительная хрустальная люстра, словно из Венской оперы. На втором этаже спальня из карельской березы (вытащили ее прямо у какого-то чина гестапо, вообще гестаповское имущество органы считали своим, как наследство почившего родственника), полный комплект семейного счастья. Наконец, кабинет барчука: английские напольные часы, стол из красного дерева, китайские вазы, статуэтки и бюсты, изображавшие людей из чуждой несоветской истории (особенно запомнились белые бюсты польского маршала Понятовского и большегрудой дамы, которая потом оказалась богиней Дианой). Довольно мощная библиотека (мальчика из простой, но престижной семьи готовили в интеллигенты), там классики марксизма-ленинизма и очень русский Вячеслав Шишков (его Анфиса из «Угрюм-реки» долго меня волновала, но я не опущусь до признаний Руссо в мастурбации), полное собрание Алексея Толстого соседствовали с «Очерками секретной службы» полковника Роуэна, «Совершенно секретно» Ральфа Ингерсолла и настольной книгой, разосланной в управления военной контрразведки по личному указанию шефа службы Виктора Абакумова – «Тайная война против Советской России» американских коммунистов Сейерса и Кана, сделанной ими по заказу Москвы. Атмосферу интеллектуальности несколько подрывала деревянная кровать (естественно, тоже красного дерева) с голубым стеклянным глазом на спинке[65].
Дружил я и с папиными ординарцами, лелеявшими барчука не хуже английских гувернеров. Хлебное место денщика ценилось высоко, особенно в первые послевоенные годы, когда начальники отправляли слуг на Запад в командировку за трофейным барахлом. Каждый ординарец имел чемоданы, по которым я тайно лазил, они были набиты часами, фарфором, одеждой, ботинками, бельем (все для дома после демобилизации), но особенно привлекали меня пистолеты, которыми можно было всласть поиграть. Особенно нравилось изображать самоубийцу и картинно пускать себе пулю в висок перед зеркалом, перед этим, естественно, подстрелив нескольких нападавших фашистов. Однажды после щелчка в висок я прицелился в чемодан ординарца, видя в нем вражеский танк, вдруг пистолет бухнул, оказалось, что мой наставник добыл патроны, и зарядил браунинг, целый месяц он тяжело вздыхал по поводу этого эпизода, больше всего печалило его, что пуля пробила три пары новых полотняных подштанников.