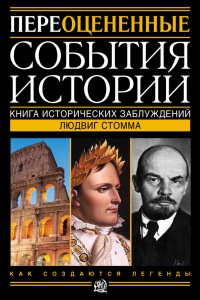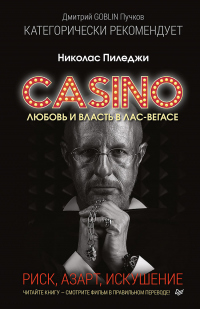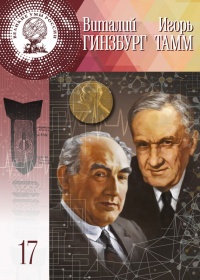Книга Голубиный туннель - Джон Ле Карре
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Но Анатоль, прикарманив десять фунтов и заботливо поинтересовавшись, здоров ли Ронни, сообщил мне, что и рад бы вернуть клюшки, но, к сожалению, никак не может: администрация отеля велела не отдавать их, пока Ронни не оплатит счет. И звонок в Лондон за счет вызываемого абонента проблемы не решил.
Господи боже мой, сын, а ты не мог позвать управляющего? Они что думают, твой папа хочет их надуть или как?
Конечно, нет, отец.
Двери элегантного особняка мне отворила женщина, самая соблазнительная на свете. Должно быть, я стоял ступенькой ниже, потому что помню, как она улыбалась, глядя на меня сверху, словно ангел-спаситель. Помню ее обнаженные плечи, темные волосы и воздушное многослойное платье из шифона, которое, однако, не скрывало ее фигуры. Для шестнадцатилетнего юноши соблазнительная женщина не имеет возраста. Я нынешний скажу, что она была в самом расцвете — лет тридцати с чем-нибудь.
— Вы сын Ронни? — недоверчиво спросила женщина.
Затем отступила, и я прошмыгнул мимо нее в дом. В холле она, положив руки мне на плечи, оглядела меня с ног до головы в свете люстры, внимательно и игриво, и, кажется, осталась довольна.
— Итак, вы хотите видеть Марио, — сказала женщина.
Если можно, ответил я.
Она не убрала рук с моих плеч и продолжала рассматривать меня глазами всех цветов радуги.
— Вы совсем еще мальчик, — заметила она, как бы делая себе пометку.
Граф ждал меня в гостиной, стоял спиной к камину, сложив руки за спиной, и походил на всех послов из всех фильмов того времени — дородный, в бархатном пиджаке, с безупречной прической — рифленой, как мы тогда говорили, копной седеющих волос, и руку мою он обхватил крепко — поздоровался по-мужски, хоть я и был совсем еще мальчик.
Графиня — ибо такую роль я ей отвел — не спрашивает, употребляю ли я алкоголь, а уж тем более — люблю ли дайкири. А если бы спросила, я ответил бы «да» на оба вопроса, то есть солгал бы. Она подает мне запотевший бокал с вишенкой на шпажке, мы все усаживаемся в кресла и некоторое время ведем светскую беседу, как принято у послов. Нравится ли мне город? Много ли у меня друзей в Париже? Может быть, и девушка есть? Посол шаловливо мне подмигивает. И я, конечно, что-то убедительно вру в ответ, умалчивая о клюшках для гольфа и консьержах, но в конце концов возникает пауза, и я понимаю: пора переходить к цели моего визита, но напрямую (это мне уже известно по опыту) о ней говорить не стоит, лучше пойти окольным путем.
— Отец упомянул, что вы с ним так и не завершили одно небольшое дело, сэр, — намекаю я послу и слышу свой голос будто издалека — дайкири подействовал.
Здесь следует объяснить суть этого небольшого дела, можно сказать, незамысловатого, в отличие от большинства сделок Ронни. Поскольку граф — дипломат и первый посол, сынок — я повторяю слова отца, с энтузиазмом излагавшего мне вкратце суть моей миссии, — он освобожден от досадных неудобств вроде налогов и ввозных таможенных пошлин. Граф может ввозить, что пожелает, и вывозить, что пожелает. Если кто-нибудь, скажем, послал графу, воспользовавшись его дипломатическими привилегиями, бочонок невыдержанного, немаркированного шотландского виски по паре пенсов за пинту, а граф согласно договоренности разлил его по бутылкам и отправил в Панаму или куда угодно, опять же воспользовавшись дипломатическими привилегиями, так это личное дело графа, и больше ничье.
Точно так же, если граф решил вывозить вышеупомянутый невыдержанный, немаркированный виски в бутылках определенной формы — похожих, допустим, на те, в которые разливают «Димпл Хейг» (популярная в то время марка), — то и на это он имеет полное право, равно как и выбрать любую этикетку для этих бутылок и сопроводить их содержимое любым описанием. Но меня пусть заботит только одно: граф должен расплатиться — наличными, сынок, без всяких фокусов. Когда же граф снабдит меня деньгами, я должен себя побаловать — заказать хорошее мясное ассорти на гриле за счет Ронни, сохранить чек и на следующее утро сесть на первый паром, а по прибытии в Лондон сразу прийти в его роскошный офис в Вест-Энде с оставшейся суммой.
— Дело, Дэвид? — повторил граф тоном моего школьного воспитателя. — Какое бы это могло быть дело?
— Вы задолжали ему пятьсот фунтов, сэр.
Я запомнил его растерянную и такую снисходительную улыбку. Запомнил роскошную обивку диванов, шелковые подушки, старые зеркала, отблеск золота и мою графиню, скрестившую длинные ноги под слоями шифона. Граф все разглядывал меня, растерянно и беспокойно. И то же самое делала моя графиня. А потом они стали поглядывать друг на друга, будто бы обмениваясь впечатлениями о том, что разглядели.
— Очень жаль, Дэвид. Узнав о твоем предстоящем визите, я уж понадеялся, что это ты, может быть, принесешь мне часть той немалой суммы денег, что я вложил в смелые предприятия твоего дорогого отца.
До сих пор не представляю, как я отреагировал на столь ошеломляющий ответ и достаточно ли он меня ошеломил. Помню, на короткое время я перестал осознавать, где нахожусь и который теперь час, — причиной, полагаю, был отчасти дайкири, отчасти — понимание, что сказать мне нечего, что я не имею права сидеть у них гостиной и лучше всего мне сейчас извиниться и уйти. А потом я вдруг не обнаружил в комнате ни графа, ни графини. Вскоре хозяин с хозяйкой вернулись. Граф улыбался мне сердечно и беззаботно. И графиня выглядела очень довольной.
— Дэвид, — сказал граф как ни в чем не бывало. — Может, нам пойти поужинать и поговорить о чем-нибудь более приятном?
У них был любимый русский ресторанчик — метрах в пятидесяти от дома. Помню крошечный зал, и никого в нем нет, кроме нас троих да мужчины в мешковатой белой рубахе, который щиплет струны балалайки. За ужином, пока граф говорил о чем-то более приятном, графиня скинула туфлю и гладила мою ногу пальчиком в нейлоне. А когда мы танцевали на крошечной эстраде, графиня, напевая «Очи черные», прижималась ко мне всем телом, покусывала мочку моего уха и одновременно кокетничала с балалаечником — граф снисходительно за всем этим наблюдал. Когда мы вернулись к столу, граф решил, что всем пора в постель. Графиня, крепко сжав мою руку, поддержала это предложение.
Забывчивость избавила меня от воспоминаний о том, как, под каким предлогом я ушел, но как-то я все-таки ушел. Как-то нашел себе скамеечку в парке и как-то умудрился остаться мальчиком, коим меня объявила графиня. Спустя не один десяток лет я оказался в Париже совсем один и попробовал отыскать ту улицу, тот дом, тот ресторан. Но даже если бы они еще существовали, все равно были бы уже не те.
* * *
Не стану кривить душой и утверждать, будто притягательность этой пары — графа и графини — и заставила меня полвека спустя приехать в Панаму и сделать ее местом действия двух романов и одного фильма; однако тот чувственный, несбывшийся вечер продолжал жить в моей памяти, пусть лишь как воспоминание о том, что едва-едва не случилось в юности, которая никогда не заканчивается. Почти сразу по прибытии в столицу Панамы я стал наводить справки. Бернаскина? Никто о таком не слышал. Граф? Из Панамы? Это казалось маловероятным. Может, мне приснилось? Нет, не приснилось.