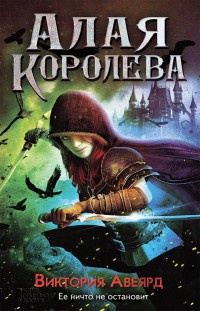Книга Алая буква - Натаниель Готорн
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
— Люди уважают тебя, — сказала Гестер. — И ты, конечно, делаешь им много добра! Разве это не приносит тебе утешения?
— Нет, только увеличивает мое несчастье, Гестер, да, увеличивает! — ответил священник с горькой улыбкой. — Что касается добра, которое я как будто творю, я не верю в него. Это самообман. Способна ли моя гибнущая душа спасти чужие души? Способна ли запятнанная душа очистить чужие? А уважение людей… Лучше бы оно превратилось в презрение и ненависть! Неужели, Гестер, ты видишь мое утешение в том, что я должен стоять на своей кафедре и встречать сотни взоров, устремленных мне в лицо с таким восторгом, будто от него исходит небесный свет, должен видеть, как моя паства жаждет истины и прислушивается к моим словам, как к глаголу божию, — а затем заглядывать в свою душу и видеть, как черно то, перед чем они благоговеют! Преисполненный горя и муки, я смеялся над разницей между тем, кем я кажусь и кто я на самом деле! И сатана тоже смеется!
— Ты несправедлив к себе, — мягко сказала Гестер. — Ты каялся тяжко и глубоко. Твой грех остался позади в давно минувших днях. Теперь твоя жизнь действительно не менее свята, чем это кажется людям. Разве это не истинное раскаяние, скрепленное и засвидетельствованное добрыми делами? И почему же оно не могло бы принести тебе покой?
— Нет, Гестер, нет! — ответил священник. — Мое раскаяние не настоящее. Оно холодно и мертво и ничем не может помочь мне! Покаяния у меня было довольно, но раскаяния не было! Иначе я должен был бы давно уже сбросить личину ложной святости и предстать перед людьми таким, каким меня увидят когда-нибудь в день Суда. Ты, Гестер, счастливая: ты открыто носишь алую букву на груди своей! Моя же пылает тайно! Ты не знаешь, как отрадно после семилетних мук лжи взглянуть в глаза, которые видят меня таким, каков я в действительности! Будь у меня хоть один друг или даже самый заклятый враг, к которому я, устав от похвал всех прочих людей, мог бы ежедневно приходить, и который знал бы меня как самого низкого из всех грешников, мне кажется, тогда душа моя могла бы жить. Даже такая малая доля правды спасла бы меня! Но кругом ложь! Пустота! Смерть!
Гестер Прин взглянула ему в лицо, но говорить не решалась. Однако такое страстное излияние долго сдерживаемых чувств дало ей возможность высказать то, ради чего она пришла. Она преодолела свой страх и начала:
— Такого друга, о котором ты только что мечтал, друга, с которым ты мог бы оплакивать свой грех, ты имеешь во мне, твоей соучастнице! — Она снова поколебалась, но, сделав над собой усилие, продолжала: — У тебя давно есть также враг, и ты живешь с ним под одной крышей!
— Что? Что ты сказала? — воскликнул он. — Враг? И под моей крышей? Что это значит?
Гестер Прин теперь ясно сознавала, какой глубокий ущерб она причинила этому несчастному человеку, допустив, чтобы в течение стольких лет он лгал, а также — чтобы он хоть одно мгновение находился во власти того, чьи намерения могли быть только враждебными. Одного соприкосновения с врагом, под какой бы маской он ни скрывался, было достаточно, чтобы расстроить магнитную сферу существа столь впечатлительного, как Артур Димсдейл. Было время, когда эта мысль не так волновала Гестер, или, может быть, ожесточенная собственным горем, она предоставила священника его судьбе, которая казалась ей не такой уж тяжелой. Но с недавних пор, после той ночи бодрствования, ее чувства к нему стали мягче и сильнее. Теперь она более правильно читала в его сердце. Она не сомневалась, что постоянное присутствие Роджера Чиллингуорса, тайный яд его злобы, отравивший даже воздух вокруг, его властное вмешательство, в качестве врача, в область физических и духовных страданий священника, — все эти неблагоприятные для мистера Димсдейла обстоятельства были использованы с жестокой целью. Злоупотребляя своим положением, Роджер Чиллингуорс непрестанно будоражил совесть страдальца, стремясь не излечить с помощью благотворной боли, а подорвать и искалечить вконец его духовное бытие. Результатом этого, несомненно, явилось бы умопомешательство в земной жизни, а после — то вечное отчуждение от бога и истины, земным признаком которого является, пожалуй, безумие.
Такой была бездна, в которую она, Гестер, ввергла человека, когда-то, — нет, зачем таить? — еще и теперь страстно любимого ею! Гестер чувствовала, что священнику несравненно легче было бы расстаться со своим добрым именем или даже умереть, — как она и говорила Роджеру Чиллингуорсу, — чем переносить тот удел, который она выбрала для него. И теперь она предпочла бы упасть на сухую листву и умереть у ног Артура Димсдейла, чем признаться ему в своей роковой ошибке.
— О Артур, — воскликнула она, — прости меня! Я всегда старалась быть честной! Правда была единственной добродетелью, за которую я крепко держалась и продолжала держаться до последней возможности, до той минуты, когда твоему благополучию, твоей жизни и твоей доброй славе стала грозить опасность! Тогда я согласилась на обман. Но ложь никогда не приводит к добру, даже если это — ложь во спасение! Неужели ты не догадываешься, что я хочу сказать? Этот старик… врач… тот, кого зовут Роджером Чиллингуорсом, он… мой муж!
Мгновение священник смотрел на нее взглядом, исполненным ярости, которая, мешаясь с его более высокими, более чистыми, более человечными качествами, была именно той частью его натуры, к которой взывал дьявол, когда пытался завладеть всей его душой. Никогда Гестер не встречала более мрачного и гневного взгляда, чем тот, который он теперь устремил на нее. Этот взгляд длился лишь миг, но как преобразил он священника! Однако страдания настолько ослабили волю мистера Димсдейла, что даже в низменных побуждениях он был способен лишь на короткую вспышку. Опустившись на землю, он закрыл руками лицо.
— Я должен был знать это, — прошептал он. — Да, я знал! Разве естественное отвращение к нему не открыло мне эту тайну при первом взгляде на него? Разве я не испытывал того же при каждой встрече с ним? Как же я не понял? О Гестер Прин, ты не можешь представить себе весь ужас этого! Как стыдно, как больно, как страшно подумать, что я обнажал свою немощную и преступную душу пред взором того, кто тайно глумился над ней! Женщина, женщина, велика твоя вина! Я не могу простить тебя!
— Ты должен простить меня! — закричала Гестер, бросаясь на опавшие листья рядом с ним. — Пусть бог карает! А ты должен простить!
В порыве отчаяния и нежности она обхватила его голову и прижала к своей груди, не думая о том, что щека его прижалась к алой букве. Он силился освободиться из ее объятий, но не мог. Гестер не отпускала его, чтобы не встретить вновь его сурового взгляда. Семь долгих лет весь мир с гневом смотрел в лицо этой одинокой женщине, и она вынесла это, ни разу не опустив свой твердый, печальный взор. Небо тоже хмурилось при взгляде на нее, однако она не умерла. Но гневный взгляд этого бледного, немощного, сраженного горем грешника Гестер не могла вынести и остаться в живых!
— Простишь ли ты меня? — повторяла она. — Не смотри так сурово! Простишь ли ты меня?
— Я прощаю тебя, Гестер, — наконец ответил священник глухим голосом, исходившим из бездны скорби, но не гнева. — Я с радостью прощаю тебя. Да простит господь нас обоих! Мы с тобой, Гестер, не самые большие грешники на земле. Есть человек еще хуже, чем согрешивший священник! Месть этого старика чернее, чем мой грех. Он хладнокровно посягнул на святыню человеческого сердца. Ни ты, ни я, Гестер, никогда не совершали подобного греха!