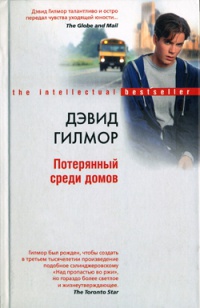Книга Музей моих тайн - Кейт Аткинсон
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
И вот мы бредем по Данком-плейс, обсуждая, не зайти ли куда-нибудь выпить горячего шоколада, а через минуту оказываемся в церкви. Мать Кейтлин макает палец в чашу со святой водой у входа, крестится и преклоняет колено перед алтарем. Кейтлин тоже. Каковы правила хорошего тона? Должна ли я сделать то же самое и не разразит ли Бог меня за это громом, раз я не католичка? Не убьет ли меня Банти по той же причине? Ни Кейтлин, ни миссис Горман на меня не смотрят — они ставят свечи, — так что я обхожу святую воду и вежливо делаю небольшой реверанс в сторону алтаря. «Пойдем поставим свечу по твоей сестре», — говорит миссис Горман и улыбается, чтобы меня подбодрить. Свечи прекрасны — кремовые, восковые, тонкие, словно карандаши, они устремлены вверх, как святые дорожные указатели, ведущие в непознаваемое, загадочное место, где живут на облаке ангел Гавриил, Агнец и стая белых голубей. Как Джиллиан выдержит в такой компании? (Наверняка уже вовсю помыкает херувимами.) Ей, конечно, никакая поддержка не будет лишней, так что я слегка трясущейся рукой зажигаю свечу, и мать Кейтлин бросает шестипенсовик в коробку, пока я делаю вид, что молюсь.
Не знаю, как Джиллиан, а мне точно полегчало от этой свечи, — видимо, в ритуале что-то есть. Потом, уже дома, я достаю с буфета новогоднюю вертушку с ангелочками, неубранный пережиток Рождества. На карнизе в гостиной еще осталась мишура. Свидетельства того, что в Э. П. Д. — эру после Джиллиан — наше домашнее хозяйство ведется уже не так тщательно. Я благоговейно ставлю вертушку на розовую тумбочку у своей кровати и каждый вечер зажигаю красные свечки, сочиняя молитвы, которые поднимутся Туда, к Агнцу, как священный дым.
Вертушку приходится использовать понемножку, так как свечей у меня больше нет, зато запас молитв бесконечен, и я столько молюсь — отчаянно, выпрашивая хоть капельку внимания Агнца, — что у меня начинают болеть колени. Так сильно, что даже Банти это замечает — как-то в субботу, во время похода в магазин за новыми туфлями. Я до того раздражаю Банти своей шаркающей походкой калеки, что она перестает меня ругать за медлительность и даже спрашивает, в чем дело (потеряв одного ребенка, она становится чуть внимательней к остальным). И мы оказываемся в приемной у врача.
Я готова навеки поселиться в приемной у доктора Хэддоу — так тут тепло и уютно, не то что у зубного врача, мистера Джеффри, где холодно и пахнет зубным антисептиком и средством для чистки унитазов. У доктора Хэддоу в приемной камин с пылающими углями, кожаные кресла, в которых можно затеряться, а на стенах акварели, написанные женой доктора. Старые напольные часы с разрисованным розами циферблатом тикают солидно, похоже на цокот конских копыт — гораздо приятней жестяного скрежета наших часов на каминной полке. Большой полированный стол завален восхитительными журналами, от «Жизни в усадьбе» до старых выпусков «Денди». Я предпочитаю «Ридерз дайджест». Банти листает «Женское царство», а я принимаюсь расширять свой словарный запас. Мне нравится ходить к доктору, — по-моему, мы могли бы это делать и чаще.
Сам доктор Хэддоу тоже очень хороший — он разговаривает со мной, как будто я настоящая, несмотря на то что Банти отвечает за меня на все вопросы, так что мне остается только сидеть молча, наподобие неисправного манекена, такого как у чревовещателя.
— Как ты поживаешь, Руби?
— У нее болят колени.
— Руби, где у тебя болит?
— Вот здесь, — говорит Банти, тыкая меня в колено так сильно, что я взвизгиваю.
Доктор добродушно улыбается.
— Чем же это ты занималась, Руби? Слишком усердно молилась? — смеется он.
После многочисленных «угу» и «хм» он наконец произносит:
— Я думаю, это бурсит.
— Бурсит? — обеспокоенно повторяет Банти. — Это что, какой-нибудь паразит?
— Ничего страшного.
— Ничего страшного?
— Колено горничной, — объясняет доктор Хэддоу.
— Колено горничной? — повторяет Банти; кажется, у нее приступ эхолалии.
Она подозрительно косится на меня, словно я веду двойную жизнь — ночами тайно работаю по дому во время снохождения. Снохозяйствования.
Мы уходим без лекарства и без каких-либо рецептов, если не считать совета «отдохнуть». Банти презрительно фыркает при этих словах, но ничего не говорит. Добрый доктор Хэддоу выписывает рецепт ей — на успокоительные.
— Вам бы тоже надо отдохнуть, — говорит он, царапая пером в блокноте для рецептурных бланков и оставляя не поддающийся расшифровке бледно-голубой след, похожий на письмена из книжки «Тысяча и одна ночь». — Время все лечит, — говорит доктор, кивая и улыбаясь (он имеет в виду смерть Джиллиан, а не мое колено). — Я знаю, что Господь был суров к вам, дорогая, но во всем есть высшая цель.
Доктор снимает очки и, как маленький мальчик, трет маленькие голубые глазки цвета чернил, а потом сидит, посылая Банти лучи улыбки. Банти за последние дни так пропиталась горем и успокоительными, что отвечает, как правило, замедленно. Она пока смотрит на доктора безо всякого выражения, но я знаю, что в любой момент она может вспыхнуть, потому что ненавидит подобные разговоры — Господь, отдохнуть, высшая цель и тому подобное, — так что я быстро встаю, говорю «спасибо» и тяну Банти за руку. Она кротким ягненком следует за мной.
Мы бредем домой мимо Клифтонского луга, по Бутэму. Зима все еще держит мир в оковах, деревья на Клифтонском лугу совершенно голы, и их ветви рисуются чернильными каляками на бледном небе цвета серой сахарной бумаги. Начинают падать редкие снежинки, я поднимаю капюшон пальто и тащусь по Бутэму, опустив голову, вслед за Банти, как маленький хромой эскимос. Странный закон жизни: с какой бы скоростью я ни шла, мне никогда не поравняться с Банти, — иди я быстро или медленно, она все равно опережает меня как минимум на три фута, словно нас связывает невидимая жесткая пуповина, способная растягиваться, но не сокращаться. Вот между Патрицией и Банти никакой такой связи нет. Моя сестра вольна решительно выступать впереди, мрачно тащиться позади или даже пугающе исчезать в какой-нибудь боковой улочке.
Коленям больно и жарко, несмотря на пронизывающий холод. Я молюсь Иисусу — прошу послать волшебный ковер, который отвез бы меня домой, но, как обычно, мои молитвы растворяются в воздухе над Йоркской долиной. Когда мы доходим до дома, у нас на щеках уже расцвели морозные розы, а в сердце застряли осколки льда. Банти пропихивается в дверь Лавки, отчего колокольчик безумно трезвонит, словно в Лавку ворвалась орда захватчиков. Но Банти почему-то забывает о приветствии, так что я кричу «Лавка!» за нее, и Джордж бросает в мою сторону чрезвычайно неоднозначный взгляд. Затем поднимает бровь в направлении Банти:
— Ну?
— Колено горничной, — отвечает Банти, закатывая глаза и кривя губы, словно желая сказать «не спрашивай».
Он все равно спрашивает:
— Колено горничной?
— Бурсит, — услужливо поясняю я, но они меня не слышат.
В Лавке ужасно холодно; все птицы в клетках нахохлились, и глаза у них блестят, как у замерзающих, — мне кажется, что они все разом коллективно грезят о тропических широтах. Почему так холодно? Почему не включены керосиновые обогреватели?