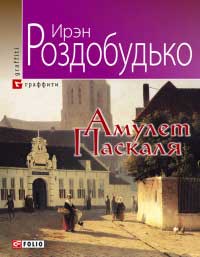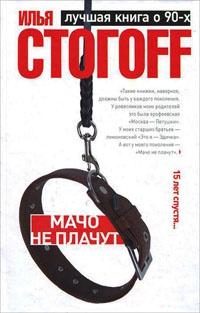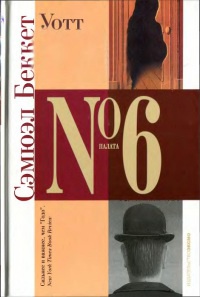Книга Бомба - Фрэнк Харрис
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
В шесть часов утра журналистов допустили в тюрьму; после чего вход был закрыт для всех. С шести и почти до одиннадцати часов примерно две сотни журналистов в ожидании простояли в кабинете начальника тюрьмы. Тем временем истории, одна страшней другой, передавались шепотом от одного бледного корреспондента к другому, и от таких историй могли не выдержать чьи угодно нервы. Два журналиста лишились чувств, и их вынесли вон. «За всю мою карьеру, — писал один из очевидцев, — я в первый и в последний раз видел, чтобы американский журналист терял сознание в преддверии казни, не имевшей к нему никакого отношения.
Теперь трудно, — писал тот же человек, — понять заразную силу паники, царившей в городе и в тюрьме. Возможно, будет легче понять наши чувства, если знать, что, пока мы стояли там, чикагская газета подготовила экстренный выпуск, всерьез объявляющий о заминировании тюрьмы, которая взлетит на воздух в момент казни».
Мне стало более чем понятно предсказание Лингга насчет результатов взрыва второй бомбы.
Через некоторое время этот честный журналист и очевидец описал «узаконенное убийство»:
«Наконец была дана команда, и мы зашагали по плохо освещенному коридору во двор, где должна была состояться казнь; мы увидели, как возрождающимся варварством были оборваны четыре жизни. Ничего не взорвалось, никто на нас не напал, никто не привел свои когорты к стенам тюрьмы или еще куда бы то ни было, вооруженные и невооруженные анархисты не угрожали властям штата. В глазах людей я видел напряжение, страх, отчего все лица казались мне бледными и осунувшимися, однако в тот день во всем городе не произошло ничего противозаконного. Звучит ужасно, жестоко, и все же, на мой взгляд, всего лишь на мой взгляд, в сердцах людей зажегся огонь, потому что четыре сердца успокоились навеки.
Окончание трагедии предварила еще одна странная сцена, и тот, кто видел ее, никогда не забудет воскресную похоронную процессию, черные катафалки, тысячи людей, которые молча вышагивали милю за милей по людным, но молчаливым улицам, мрачное впечатление от всепрощающей смерти и еще более мрачный вопрос: правильно ли мы поступили? Самоубийство Лингга и поразительное мужество, с каким он переносил нечеловеческие страдания, пробудили в людских сердцах жалость к нему, а в головах — сомнение. Короткий ноябрьский день закончился погребальными службами на темном кладбище и молчаливым возвращением людей в город. Ни один человек не подал голос ни около могил, ни где бы то ни было еще; люди все время молчали, словно что-то обдумывали».
Наконец-то завершилась затянувшаяся трагедия. Не могу передать, какие чувства обуревали меня, когда я читал статьи о последних минутах жизни узников и об их похоронах. Я словно все видел собственными глазами! До чего же хорошо я понимал Лингга и его отчаянный поступок. В то время мне и в голову не могло прийти, для чего предназначались еще четыре бомбы; ведь он взорвал только себя самого ради пробуждения страха в людях, не желая никому причинить боль. Представляете, насколько он был храбр и насколько владел собой! Ему удалось найти слова, чтобы Осборн ничего не заподозрил. А потом, когда врачи своим искусством возвращали его к жизни, причиняя нестерпимые муки, он ни разу не застонал, ни разу не вскрикнул. Слезы брызнули у меня из глаз. Такая мощь перестала существовать, такое величие обрело столь ужасный конец! Что-то отвратительное было для меня в мысли о полицейском, который назвал бездыханного Лингга «чудовищем». Ему бы спросить Осборна, и, наверно, у него сложилось бы более объективное впечатление, потому что после катастрофы Осборн не боялся говорить правду. Вот, что он сказал о Лингге: «Я самого высокого мнения о Луисе Лингге и верю, что его неправильно поняли. Он был честен в своих взглядах настолько, насколько это возможно для человека, и свободен от мстительности, словно новорожденный младенец. Мне лишь хотелось бы, чтобы молодые люди Америки могли быть такими же сильными и добрыми, каким был Луис Лингг, если забыть о его анархизме».
Даже тюремщики жалели и почитали Луиса Лингга.
Моя задача, потребовавшая от меня много времени, почти выполнена. У меня не осталось сил, чтобы особенно задерживаться на последних печальных событиях. Через десять — двенадцать дней после того, как в Кельне я получил телеграфное известие о смерти Лингга, пришла газета с полным описанием всего происшедшего, которое я использовал в предыдущей главе, а потом и письмо от Иды с четырьмя листочками, исписанными четким почерком Лингга. Он написал их и передал Иде, когда она в последний раз навестила его в субботу, пятого ноября, как раз перед тем, как у него в камере нашли бомбы. Вот это письмо:
«ДОРОГОЙ БИЛЛ!
Я знаю, что тебе все известно о моей болезни и ты будешь радоваться не меньше меня, если доктора позволят мне встать через неделю. Я мучился и еще буду мучиться; и это научило меня тому, что человек не должен сеять вокруг себя страдания, если сам не умеет мужественно их сносить. Я готов ко всему. Наш труд почти завершен, Билл, и мы хорошо потрудились, это было неплохо вопреки твоим опасениям. Первый Детский акт был принят в штате Нью-Йорк в 1886 году, и он запретил до смерти замучивать работой детей до тринадцати лет. Одному из нас осталось лишь взойти на крест, подобно Иисусу Христу, и единственно любовью обратить веревку палача в символ всеобщего братства. Сердце горит огнем у меня в груди. Мы завоевали Детскую хартию и не очень дорогой ценой. Хорошая работа, Билл, не сомневайся, это была хорошая работа.
Нам повезло, что мы познакомились и полюбили друг друга. Не забывай Иду, женись на Элси, напиши великую книгу и будь счастлив как человек, который работает не только для себя, но и для других.
До конца твой преданный друг,
Джек».
Не хочу возносить слишком высоко торопливые строчки, написанные чуть ли не в последнюю минуту жизни, но невозможно читать их и не думать о благородстве и великодушии того, кто писал их, «ибо его сила порождала нежность». Что же до меня, то это письмо окончательно вывело меня из состояния депрессии. Постановив исполнить завет Лингга, я стал работать на кельнские газеты и вновь подставил плечи под тяжелый груз жизни.
В своем письме Ида подробно рассказала мне обо всем, и я плакал, читая его. Она записала для меня последние мысли Лингга:
«Передай Биллу, — говорил он, — что мне кажется неправильным нападать на подчиненных более чем однажды, поэтому я ничего не сделал ни тюремщикам, ни судебным, как намеревался вначале.
Кроме того, нас не поняли: нечестные, подлые люди решили, что мы действовали из жадности или ненависти, поэтому требовалось доказать, что если мы ни во что не ставим жизни других людей, то свою ценим еще меньше. Себя люди не убивают из жадности или ненависти; они делают это во имя любви или во имя некоего идеала. Мой поступок научит самых умных из наших оппонентов, что их борьба с нами не даст результатов; власти должны быть на стороне правых и завоевывать уважение».
«Билл, он был безумен, — написала мне Ида, — как безумны все, кто слишком хороши для этой жизни. Я просила его ради меня не прикасаться к своим изобретениям, но он заставил меня прятать их в руках и волосах и передавать ему одно за другим, ему хотелось, чтобы и у других они тоже были — "ключи от нашей земной тюрьмы", как он называл их».