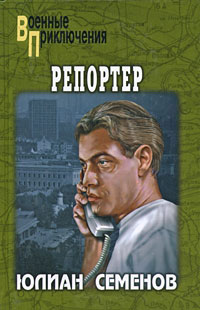Книга Экспансия-1 - Юлиан Семенов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Он написал на листочке бумаги записку: «Сеньор де Льоса, я скоро вернусь, напишите, пожалуйста, номер моего телефона, чтобы я мог продиктовать его знакомым. Сердечно Вам благодарен, Максимо Брунн».
После этого, посидев у стола пару минут, чтобы собраться, стать пружиной, сгустком чувствований и устремленности, он поднялся и вышел через черную дверь во двор.
В такси он убедился: хвоста не было.
…Переодевшись в примерочной кабинке универмага, он взял другую машину и сказал шоферу:
— Если это не очень дорого, отвезите меня, пожалуйста, в Кольменар-Вьехо.
— Это дорого, кабальеро, — откликнулся шофер. — Это очень дорого, ведь обратно мне придется ехать пустым…
— Я уплачу доллары…
— И меня посадят за это в подвал Пуэрта-дель-Соль? — спросил шофер, обернувшись. — Откуда я знаю, кто вы такой?
— Хорошо, остановитесь у какого-нибудь банка, я обменяю деньги по курсу.
— Нет уж, — усмехнулся шофер, — давайте лучше я обменяю вам по курсу. Вы ведь иностранец?
— Да.
— Песет у вас нет?
— Увы.
— Кому «увы», а кому к счастью. Хорошо, я возьму у вас доллары, едем.
— Скажите, а я смогу оттуда проехать на Гвадалахару?
— Конечно, подрядите какого-нибудь шофера на Пласа-Майор,[22]они там бездельничают, рады работе… Правда, дороги на Гвадалахару ужасные, пыльно…
— Ничего, — ответил Штирлиц, — потерплю.
В Гвадалахару он и не собирался, зачем ему туда? Ему надо успеть в Бургос, туда идут автобусы из Кольменар-Вьехо, хорошо, что ты изучал расписание не только на Андорру, но по всем направлениям; из Бургоса не так далеко до Сан-Себастьяна, а с моими долларами можно договориться с рыбаками, они возьмут меня на борт, значит, послезавтра я буду во Франции. Я должен быть во Франции, поправил себя Штирлиц; пока я все делаю правильно; я не имею права ехать; очень может быть, что я понапрасну пугаю себя, но лучше подстраховаться, да здравствуют суеверия, они пока еще никому не вредили, хорошее лекарство против самонадеянности.
— И еще, — сказал он шоферу, — давайте-ка заедем в театральный магазин, это здесь рядышком, сверните направо, я обернусь мигом…
Через пять минут он вышел с пакетом, в котором был парик и усы, ничего не попишешь, хоть век маскарадов кончился, но человечество научилось хорошо разбираться в словесных портретах разыскиваемых. Пусть ищут в пограничном Сан-Себастьяне человека с моими приметами; они не станут обращать внимания на седого мужчину с прокуренными усами; хвоста вроде бы нет, а считать и этого шофера агентом здешней охранки — значит, расписаться в том, что я болен манией преследования…
В Бургос он добрался в полночь; город жил шумной, веселой жизнью, на улицах полно народу, открыты кафе и рестораны, Пласа-Майор полна людей, и, как всегда в Испании, ему постоянно слышалась чудесная музыка, знакомая с детства.
Сняв номер в пансионате с громким названием «Эмперадор», он разделся и, повалившись на кровать, сразу же уснул; такое с ним случилось впервые за те долгие месяцы, что он здесь прожил. Во сне он видел деревенское застолье и явственно ощущал вкус квашеной капусты, хрусткой, белой, кочанной, политой темным подсолнечным маслом, только-только надавленным, а потому пахучим и безмерно вкусным. Но пугающим в этом сне было то, что он сидел за столом один, а те, с кем он разговаривал, молчали, словно набрав в рот воды.
Первые дни, проведенные в камере, казались Герингу нереальными, придуманными, какой-то дурной сон; стоит только пошевелиться, открыть глаза, сладко потянуться, и все пройдет, и снова за окном будут снежные пики Альп, пение птиц и порывы ветра, приносящие с гор запах разнотравья, самый любимый его, с детства еще, запах.
Ощущение безысходности особенно давило днем, когда американский солдат давал металлическую миску с похлебкой и два куска хлеба; самое унизительное было то, что хлеб резали нарочито грубо, толстыми, крошащимися кусками и клали на стол презрительно и властно, будто кормили наемного рабочего, приглашенного на уборочную страду.
Первое время он тяжко мучился оттого, что лишился кокаина, а он последние годы привык к этому прекрасному, легкому, веселящему наркотику; отторжение всего того, что тяготило, ощущение постоянного праздника, даже аккордеон слышится, прекрасные песни рыбаков Пенемюнде, озорные, с крепкими словечками и при этом мелодичные до того, что один раз услышанная мелодия навсегда остается в памяти.
Геринг вызвал тюремного доктора и сказал, что его давно мучают боли в тех местах, где сидели — со времен еще первой мировой войны — осколки; нельзя ли попросить что-либо обезболивающее, «возможно, вы согласитесь с тем, что мне рекомендовали мои врачи, немного кокаина, это совершенно купирует боль».
Врач провел с ним около трех часов, снова расспрашивал о ранениях, обслушивал, мерил давление, потом перевел разговор на то, как заключенный видит свое будущее, заметил, что Геринг сразу же замкнулся, отдал должное воле нациста, — из его истории болезни, захваченной оперативной группой ОСС, явствовало, что рейхсмаршал был законченным наркоманом; поинтересовался, не хочет ли заключенный пройти курс лечения в психиатрической клинике, поскольку наркомания подпадает под разряд именно психических заболеваний.
Геринг ответил, что он не намерен воспользоваться добрым советом эскулапа, который, как он понимает, позволит ему избежать суда, ведь душевнобольных, насколько ему известно, не привлекают к ответственности, в чем же виноваты несчастные, нет, он совершенно здоров и готов к тому, чтобы принять единоборство с победителями.
— Это прекрасно, что вы готовы к борьбе, — заметил американский врач, — но что касается душевнобольных, то их — по закону, утвержденному, в частности, и вами, — просто-напросто душили в газовых печах, как неполноценных. Следовательно, по тем нормам права, которые вы вместе со своими коллегами, руководившими рейхом, навязали немцам, душевное заболевание никак не освобождает вас от ответственности.
Геринг усмехнулся, наблюдая при этом себя со стороны; важно, чтобы усмешка была пренебрежительной; врач — первая ласточка, он вроде доктора Брандта, который писал фюреру письменные рапорты о том, что он, Геринг, говорил во время болезни, какие лекарства принимал, чем интересовался; и здесь сегодня же все будет доложено начальнику тюрьмы, каждое его, рейхсмаршала, слово будет проанализировано, каждый жест изучен, даже усмешку занесут в картотеку наблюдения; внимание, постоянное внимание.
— Значит, в Нюрнберге меня намерены судить по законам рейха? — спросил он. — Если так — я спокоен, этот суд станет Процессом против обвинителей.
…Он отказался от медицинской помощи; когда кокаиновая жажда делалась невозможной, доводящей до исступления, он начинал щипать под одеялом тело, хотя понимал, что доктора, осматривающие его еженедельно, будут задавать вопросы о причинах появления синяков; пусть, только я хозяин самому себе, я позволял себе радость наркотика, я познал блаженство прекрасных видений, я спас себя от ужаса последних месяцев, когда, в отличие от моих товарищей, спал по ночам и сохранял прекрасное настроение, будучи уверенным в чуде и в победе, я сам и поломаю эту привычку. А если не смогу, если силы оставят меня, тогда я отвинчу коронку в коренном зубе (тюремщики никогда не смогут понять, что это тайник для яда) и все кончу здесь же, в камере, до начала процесса. Либо я выйду на процесс как боец, либо я должен уйти сейчас, чтобы остаться в памяти немцев как легенда.