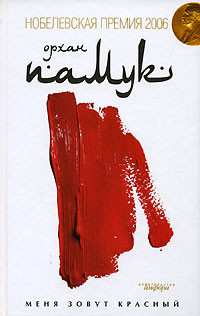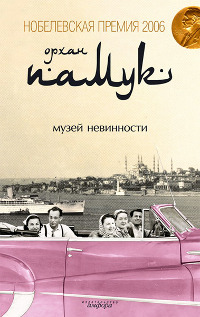Книга Турция. Биография Стамбула - Орхан Памук
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Жерар де Нерваль в Стамбуле: прогулки по Бейоглу
Я не могу без душевного трепета смотреть на некоторые рисунки Меллинга. Места, где прошло мое детство, да и вся жизнь, изображены на них такими, какими они были в те времена, когда там еще не было построено ни одного дома, когда еще не существовало знакомых мне улиц, домов, кварталов. Вооружившись увеличительным стеклом, я рассматриваю поросшие тополями и чинарами, распаханные кое-где под огороды холмы, на которых позже вырастут районы Йылдыз, Мачка, Тешвикийе, и во мне рождается то же самое горькое чувство, какое я испытываю, глядя на осиротевшие сады вокруг сгоревших особняков, разрушенные стены и арки акведуков. Такое же чувство, должно быть, испытали бы стамбульцы тех времен, если бы им довелось увидеть, во что превратился их рай на земле. Потрясение, которое ощущаешь, видя, что всего того, что окружало тебя с самого детства, было центром твоего мира, исходной точкой всех твоих представлений о жизни, еще совсем недавно (за сто лет до твоего рождения) не существовало, — испытание не менее тяжелое, чем возможность увидеть мир, каким он будет после твоей смерти. Весь твой жизненный опыт, тщательно выстроенные отношения с людьми, накопленные вещи — перед лицом времени все это оказывается не так уж и важно, и осознание этого заставляет трепетать мою душу.
Схожий трепет я испытываю, перечитывая одно место из посвященной Стамбулу части «Путешествия на Восток» Жерара де Нерваля. Французский поэт, прибывший в Стамбул в 1843 году, через полвека после того, как здесь писал свои картины Меллинг, рассказывает о предпринятой им прогулке от галатской обители дервишей ордена Мевлеви (через пятьдесят лет эта местность получит название Тюнель) до теперешнего Таксима. (По этому самому маршруту через сто пятнадцать лет буду шагать и я, держа маму за руку.) Район, через который проходил путь Нерваля, сегодня называется Бейоглу; его главная улица, Гран-Рю-де-Пера, после установления республики переименованная в Истикляль, в 1843 году выглядела примерно так же, как и в наши дни. Нерваль пишет, что эта улица, особенно после осмотра дервишеской обители, напомнила ему Париж: те же модные костюмы, блеск витрин, прачечные, ювелирные магазины, кондитерские, английские и французские отели, кафе и здания посольств. Однако после того как Нерваль миновал здание, названное им французской больницей (сейчас это Французский культурный центр), город кончился — с удивительной, а для меня даже ужасающей, внезапностью. Ибо вместо сегодняшней площади Таксим, самой большой площади города, с самого детства бывшей центром моего мира, перед Нервалем предстало пустое пространство, по которому разъезжали кареты и бродили торговцы котлетами, рыбой и арбузами. Далее начиналась равнина и тянулись кладбища — в ближайшее столетие им предстояло исчезнуть, растворившись в городе. Я никогда не смогу забыть данное Нервалем описание тех мест, где прошла вся моя жизнь, мест, которые я неизменно воспринимал как «кварталы, застроенные очень старыми домами»: «Огромные, бескрайние луга, поросшие кое-где тенистыми соснами и грецким орехом».
Нервалю в то время было тридцать пять лет. Двумя годами ранее с ним случился первый приступ депрессии, заставивший его на некоторое время лечь в психиатрическую лечебницу. (Пройдет двенадцать лет, и депрессия доведет его до самоубийства.) За полгода до прибытия Нерваля в Стамбул умерла актриса Женни Колон, в которую он был безответно влюблен, что наложило отпечаток на всю его жизнь. Эти несчастья, равно как и романтический образ Востока, укоренившийся во французской литературе благодаря Шатобриану, Ламартину и Гюго, повлияли на сочинение Нерваля, представляющее собой описание путешествия по маршруту Каир — Александрия — Сирия — Кипр — Родос — Измир — Стамбул. Памятуя о том, что Нерваль, подобно своим предшественникам, планировал написать что-нибудь на восточную тему в меланхолических традициях французской литературы, легко вообразить, что Стамбул оказался для него настоящей находкой.
Однако во время пребывания в Стамбуле Нерваля интересовала главным образом не собственная меланхолия, а все то, что могло бы помочь забыть про нее. Собственно говоря, он и в путешествие отправился, чтобы избавиться от своих душевных терзаний или, по крайней мере, скрыть их от других и попытаться забыть о них самому. В письме к отцу он уверяет: «После путешествия на Восток всем станет ясно, что приступ безумия, случившийся со мной два года назад, был не более чем несчастным случаем, который больше не повторится», и обнадеживающе добавляет, что чувствует себя замечательно. Можно, таким образом, заключить, что в Стамбуле, еще не униженном поражениями, бедностью и сознанием своей слабости по сравнению с Западом, поэт не обнаружил ничего такого, что могло бы заставить его испытывать печаль. (Не будем забывать, что печаль пришла в Стамбул после крушения империи.) В своих путевых заметках Нерваль отмечает, что на Востоке ему не раз являлось «черное солнце меланхолии» (образ из его знаменитого стихотворения), однако в качестве примера приводит берега Нила. В Стамбуле же он вел себя как нетерпеливый журналист, рыщущий по самым колоритным, интересным, экзотическим местам города в поисках материала для статьи.
Именно поэтому Нерваль приехал в Стамбул во время Рамазана. По его представлениям, надо полагать, это было все равно что приехать в Венецию на карнавал. (Он так и пишет, что Рамазан — это время поста и «карнавала».) По ночам он ходил смотреть представления «Карагёза», любовался видами освещенного фонарями города и заглядывал в кофейни, чтобы послушать рассказчиков историй. Впоследствии по стопам Нерваля пошло немало других западных путешественников, описавших свои впечатления от такого рода ночных развлечений, а сто лет спустя, когда под влиянием современных технологий, европеизации и обнищания жители города позабыли свои традиции, о «былых ночах Рамазана» стали в своих романах и мемуарах вспоминать многие стамбульские писатели, чьи книги я завороженно читал в детстве (во многом под их влиянием я решил соблюдать пост). Сегодня я вижу, что на всей этой литературе лежит отпечаток «туристического» образа Стамбула, созданного совместными усилиями Нерваля и ему подобных сладкоречивых искателей экзотики. Хотя Нерваль и посмеивается над английскими писателями, приезжающими в город на три дня, чтобы шустро осмотреть все «достопримечательности» и тут же засесть за написание статьи или книги, сам он не преминул посмотреть на религиозные обряды дервишей, ждал у ворот дворца, чтобы издалека увидеть выезд султана (он уверяет, что Абдул-Меджид тоже взглянул на него, когда проезжал мимо), и, прогуливаясь по кладбищам, предавался размышлениям о турецких костюмах, обычаях и ритуалах.
Перед тем как повеситься, Нерваль положил в карман рукопись своей автобиографической книги «Аврелия, или Мечта и жизнь». В этом леденящем душу, уникальном в своем роде сочинении (автор, впрочем, сравнил его с «Новой жизнью» Данте), высоко оцененном впоследствии сюрреалистами Андре Бретоном, Полем Элюаром и Антонином Арто, Нерваль пишет, что после того, как его отвергла возлюбленная, ему оставалось лишь предаться «грубым развлечениям», помогающим забыться и убить время, и признается, что именно желание забыться заставило его отправиться в странствия по свету и пробудило в нем глупое любопытство к экзотическим нарядам и странным ритуалам дальних стран. Нерваль понимал, что описания восточных женщин, ритуалов, видов города и ночей во время Рамазана получаются у него по-газетному плоскими, грубыми, дешевыми, и поэтому, подобно многим писателям, чувствующим необходимость перемежать свое повествование вставными новеллами, чтобы удержать внимание читателя, он разнообразил «Путешествие на Восток» несколькими длинными историями, большую часть которых придумал или додумал самостоятельно. (В сборнике под названием «Стамбул», подготовленном Яхьей Кемалем, А. Ш. Хисаром и А. X. Танпынаром, есть написанная последним обширная статья, посвященная особенностям времен года в нашем городе. В ней автор упоминает о том, что потратил немало времени, пытаясь выяснить, какие из этих рассказов были сочинены Нервалем, а какие на самом деле имеют местное происхождение.) Описания города обрамляют эти истории, многое говорящие о внутреннем мире писателя, однако имеющие весьма малое отношение к Стамбулу, выполняя примерно ту же роль, что рассказ о Шехерезаде в «Тысяча и одной ночи». Кстати, в тех местах, где Нерваль чувствует, что рисуемая им картина получается недостаточно яркой, он неизменно пытается произвести впечатление на читателя, прибегая к сравнениям со сказками «Тысяча и одной ночи». Заметив вскользь, что не считает нужным описывать дворцы, мечети и бани, поскольку они были уже замечательно описаны до него, Нерваль произносит фразу, которая сто лет спустя не будет давать покоя Яхье Кемалю и А. X. Танпынару и станет распространенным штампом в устах западных путешественников: «Стамбул, чьи виды делают его прекраснейшим из городов мира, похож на театр: на представление лучше смотреть из зрительного зала, не пытаясь зайти за кулисы, где вас может ждать грязь и нищета». Должно быть, читая именно Нерваля, Яхья Кемаль и Танпынар поняли, что создать образ Стамбула, близкий его обитателям, можно лишь сведя в единое целое красоту видов и нищету «кулис», — что они и сделали в своих романах, статьях и стихотворениях. Но созданный двумя великими писателями, поклонниками Нерваля, образ Стамбула, позже упрощенный их многочисленными последователями, все же вырос скорее из нищеты окраин и исторической памяти, нежели из ценимых путешественниками красот. Чтобы понять этот образ, нам нужно обратиться к книгам другого писателя, посетившего Стамбул после Нерваля.