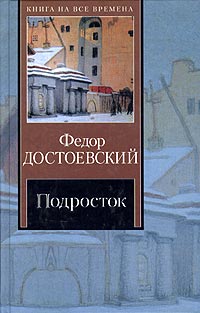Книга Избранное - Иоганнес Бобровский
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Поднялась в река вода —
Крикнул Мойша: «Ой! Беда!»
Вон уже где вышагивает Вайжмантель. А вон и Пильхова хибара. Вечереет.
«До скорого свидания», — повторяет Хабеданк про себя. И прибавляет шагу — это он, возможно, перенял у лошадей.
Смыло все его пожитки:
«Ой! Беда! Одни убытки!»
«До скорого свидания», — говорит и Глинский, мы об этом расскажем коротко: о том, как он сидит в своей приходской канцелярии в Малькене. Но говорит он это по-другому, вернее, пишет на бумаге, и выглядит оно так: «Твой покорный слуга». Это конец письма, в предпоследней фразе упоминалась высокоуважаемая супруга, а все письмо начинается: «Дорогой специ».
Последнее означает дружище. Вот те на, немецкий священнослужитель, или Ровоам, оказывается, пишет по-австрийски. А сейчас он подвертывает керосиновую лампу, потому что она коптит и все стекло сверху почернело. А сейчас встает и подходит к окну.
Глинский из Галиции, из Лемберга, ходил там в школу, что мало кому здесь известно, к австриякам, значит, вместе с господином ландратом, который воспитывался у родителей фрау пасторши. Вот как оно бывает в жизни. Теперь оба сидят здесь, на Кульмской земле, совсем неподалеку друг от дружки, но видятся редко, и оба — немцы.
Письмо надписано: «Господину королевскому ландрату в Бризене».
— Натали! — зовет Глинский и отворяет дверь.
Но из соседней комнаты никто не отзывается. Придется выйти самому закрыть ставни.
Хабеданк этого не делает, в Пильховой хибаре ставни закрывает Мари. Она стоит перед домом между двумя мальвами и, когда Хабеданк подходит, говорит:
— Черт воду мутит.
— Не только здесь, — говорит Хабеданк, и оба идут в дом. Там у стола, подперев кулаками голову, сидит Левин, Левин, который всегда вскакивает, когда кто-нибудь входит.
Хабеданк кладет футляр со скрипкой на шкаф, вешает шапку на крюк, рядом с керосиновой лампой, говорит:
— Фитиль не поправлен, — припускает его повыше, потом подвертывает пониже и садится против Левина. — Черт воду мутит.
— Где это еще? — спрашивает Левин.
— В Малькене, — отвечает Хабеданк.
А Мари ставит на стол кринку молока и бросает:
— Вот собаки!
— Да, — говорит Хабеданк, — там этот Глинский, он ему поможет.
— Как же так? — спрашивает Левин и поднимает голову. — При чем тут Глинский?
— Сейчас тебе объясню, — говорит Хабеданк, — объясню точно, чтобы ты точно знал. Они ж немцы, а немцы — это почище святош.
И Левин узнает про Малькенскую унию 1874 года, заключенную в воскресенье по случаю крещения, или окропления, младенца между людьми, которые обычно не ладят, между вороньем разной масти, так сказать, между черными галками и серыми воронами, но, во всяком случае, между вороньем.
— Что же нам теперь делать? — спрашивает Мари.
На что Хабеданк говорит:
— Ну-ну! — И: — Не спеши, — и рассказывает об итальянском цыганском цирке. — В будущее воскресенье у Розинке.
— А, у Розинке! — говорит Левин, машет рукой и снова подпирает кулаками голову. — Я его просил подвезти меня на той неделе в Бризен, ему туда ехать за товаром. А он мне на это: «Господин Левин, я знаю, зачем вам понадобилось в Бризен, так что поезжайте с кем-нибудь другим».
— Э-э! — говорит Хабеданк. — Расчет на первом месте. Рига у него сейчас пустует. Брось голову ломать, хватит на сегодня, ступай-ка лучше спать.
Левин встает, ищет картуз, хочет пожелать Мари спокойной ночи, но Хабеданк говорит:
— Оставался же ты позавчера и вчера, можешь остаться и сегодня и завтра.
— И послезавтра, — говорит Мари.
— И послезавтра, — повторяет за ней Хабеданк.
О песне Вайжмантеля он умолчал.
Ах, не знал и Моисей,
Что же значит случай сей…
Но Моисей знал, «что значит сей случай» — откуда взялась вода, тут песенка не в ладу с истиной. Однако в воскресенье все будет в лад.
Мари снимает лампу со стены, ставит ее возле кровати Хабеданка и выходит, Левин за ней.
В комнате Мари темно. Гудит запоздалая муха.
— Ступай-ка и ты спать, — говорит ей Мари.
Слышно, как рядом Хабеданк поет: «Гей-гей-гей-гей!» — и еще раз: — «Гей-гей-гей-гей!» Больше ничего. Потом слышно, как он укладывается в постель, и немного погодя, как вздыхает.
Лежишь и слушаешь, много чего можно услышать в ночи, когда ты Левин. Птиц под крышей, ветку вишни, что беспрестанно задевает за стену, под утро — ветер. И спокойное дыхание этой Мари. Уже далеко за полночь. Иногда поверху проносятся сны, неизвестно куда, без руля и без ветрил.
То, что может пригрезиться Левину, слишком тяжко для сна.
И вот лежит человек с открытыми глазами, и все перед ним проходит: Рожаны, городишко там, за Наревом. С этой стороны на высоком берегу — почта, с другой — дубильни, которыми славится город. Чугунный мост. Белая синагога, а за ней сады, яблони, по весне тоже белые. Неумолчное гудение пчел позади хедера дяди Довида. Дядя Довид с его белыми волосами под ермолкой и с черной бородой. Он подходит к двери, говорит: «Иди, не слушай никого. Небо — оно высокое». Мне было тогда шестнадцать, я работал с отцом, и мне уже доверяли шкурки выдр.
Нарев, чуть побольше воды, чем в Древенце. Там пришлось бы ставить наплавную мельницу.
«Не лез бы в воду, не потонул в броду», — писал тате. Все такие слова. Не лез бы…
Слабый свет сочится сквозь щель в ставне.
Левин закрывает глаза. Он разучился спать. Он слышит, как рядом за стенкой Хабеданк приподнимается в постели, слышит утренний кашель Хабеданка, слишком натужный для этого времени года, еще стук в дощатую перегородку и ласковый возглас: «Мари, вставай!» Дальше он уже ничего не слышит. Левин наконец уснул.
— Он весь дрожит, — говорит Мари.
Она стоит у кровати. Нет, лоб холодный, но на висках капельки пота.
Разбуди его, Мари. Слишком тяжки сны Левина. Вот проносится последнее сновидение.
Темень. Холод. Ветер бьется о стену. Застонали стропила, треск ломающихся досок, скрежет песка. Вода хлынула поверх затвора, вышибла его. Левин вскакивает с лавки, бежит к двери. Что это? Колесо выворачивается и медленно, неспешно проламывает стену — это Левин еще видит; он видит, как подгибаются сваи, как жернова проваливаются вместе с полом, как рушится потолок, отрываются мостки, и вот по реке плывут уже обломки.
Разбуди Левина, Мари.
Как звать того черта, который здесь воду мутит, это Вайжмантелю хорошо