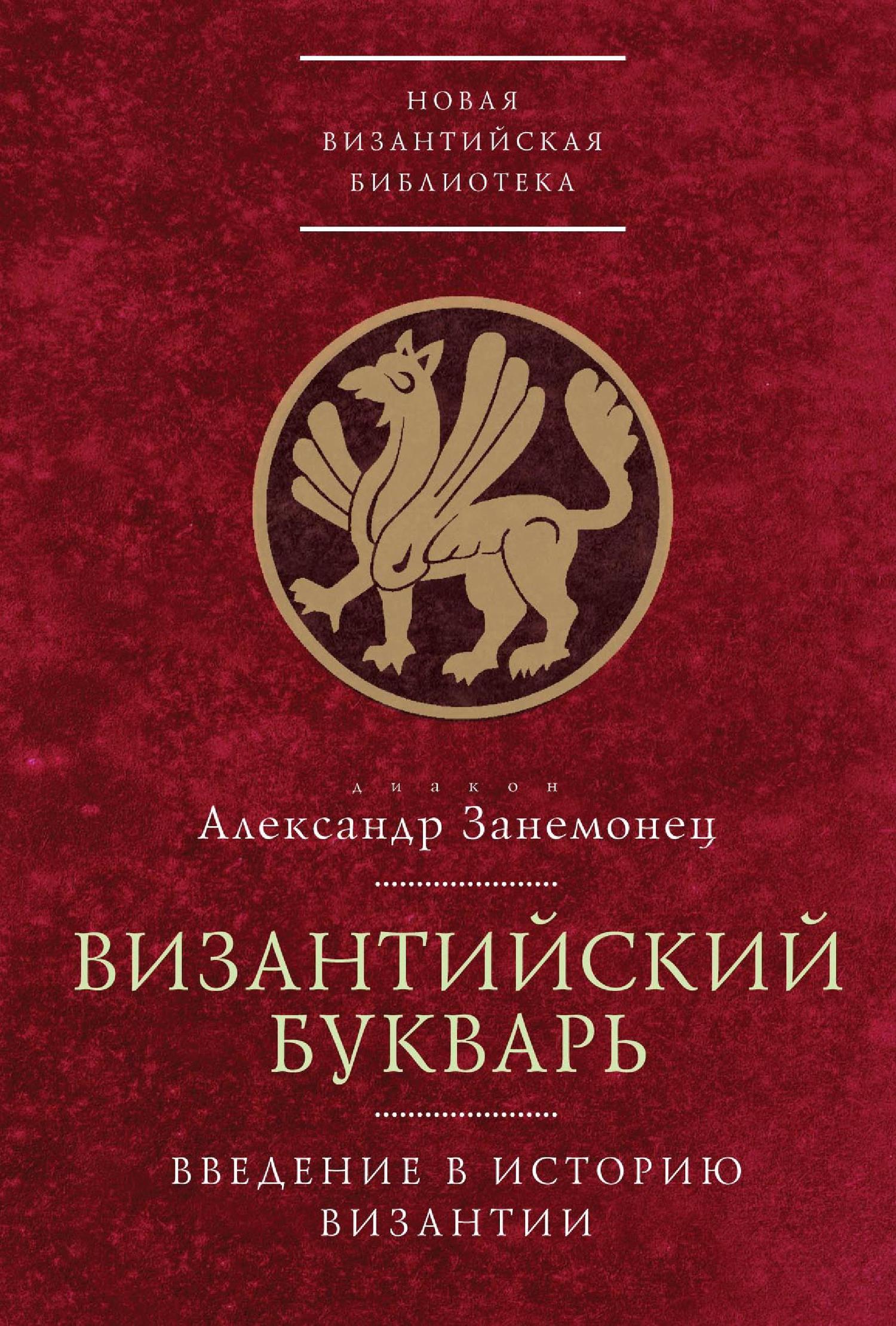Книга Одиночество и свобода - Георгий Викторович Адамович
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Для Шестова такого рода возражения были филистерством и прекраснодушием, как для Иванова подпольные поиски Шестова были чем-то похожим на гробокопательство. Отражение этого разногласия косвенно запечатлено в «Переписке из двух углов», где через голову Гершензона Иванов как будто обращается со своими увещеваниями именно к Шестову.
В задачу мою не входит однако ни разбор, ни даже изложение шестовской философии. Хотелось бы мне только сказать несколько слов о Шестове, как литературном критике. Он мог бы оставить в этой области глубокий и значительный след, если бы чаще к ней спускался, если бы не ограничивался и здесь своими постоянными мучительными недоумениями, оставляя в стороне все то, что к личной его теме отношения не имело. Но даже и с такой оговоркой Шестов – явление в нашей критике замечательное. По его статьям нельзя, конечно, составить себе сколько-нибудь полного представления ни о Толстом, ни о Достоевском, ни о Пушкине, ни о Чехове, но как бы на полях того, что было о них сказано другими, – отчасти в дополнение, отчасти в опровержение, – шестовские догадки и намеки дают порой очень много. Что скрывать, критика – область, которой нашей литературе особенно гордиться не приходится! До уровня великой русской поэзии и великой русской художественной прозы она никогда не поднималась, и даже в последние десятилетия, в которые какого-либо величья осталось в нашей словесности вообще маловато, – профессиональные критики плелись в хвосте культуры и творчества, и в силу этого постепенно внушали убеждение, что люди, которым «есть что сказать», критикой заниматься не стали бы. Шестов в литературной критике – гость, гастролер, чуть-чуть даже дилетант. Но узнать от него можно о некоторых русских писателях, – да и не только русских: о Шекспире, например, или об Ибсене, – кое-что очень существенное, при том оставшееся скрытым.
О Толстом Шестов писал часто и с особым увлечением. Но что Толстой – великий художник, он, по-видимому, считает раз навсегда установленным и не делает никаких попыток разъяснить нам, в чем значение Толстого, именно как художника. Для него это – прописи, «дважды два четыре», – а оживляется Шестов лишь тогда, когда дважды два приводят к результату несколько неожиданному. И конечно, влечет его главным образом Толстой поздний, хотя он и не упускает случая напомнить о «несравненной прелести» «Казаков» или «Войны и мира». Из всего написанного о Толстом у Шестова наиболее интересны, – и отмечены какой-то заразительной, кровной страстностью, – размышления о «Записках сумасшедшего», короткой посмертной толстовской повести, вещи в самом деле глубоко замечательной, много более замечательной – скажу мимоходом, – чем одноименная знаменитая повесть Гоголя. В чем содержание толстовских «Записок сумасшедшего»? В том, что герой этого, несомненно, автобиографического рассказа внезапно, ночью, в номере бедной уездной гостиницы, делает страшное, всего его потрясающее открытие: в жизни нет смысла, есть только ужас и страх, которых не видят в житейской суете люди, считающиеся нормальными…
«Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибшую жизнь. Надо заснуть. Я лег, было, но только что улегся, как вдруг вскочил от ужаса. И тоска, тоска, – такая же тоска, как бывает перед рвотой, но только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерть страшна, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разодрать… Рвется что-то и не разрывается».
Для Шестова в этих строках – «ключ к творчеству Толстого».
Однако, – тут же замечает он, – «если серьезно принять то, что рассказано в “Записках сумасшедшего”, то выхода иного нет: нужно либо отречься от Толстого и отделить его от общества, как в средние века отделяли больных проказою или иной страшной прилипчивой болезнью, либо, если признать его переживания закономерными, ждать и трепетать ежеминутно, что и с другими произойдет то же, что с ним, что “общий всем мир” распадется, что люди из бодрствующих обратятся в сновидцев и у каждого человека не во сне, а наяву будет свой собственный мир.
Здравый смысл и выросшая из здравого смысла наука не могут колебаться перед такой дилеммой. Прав не Толстой с