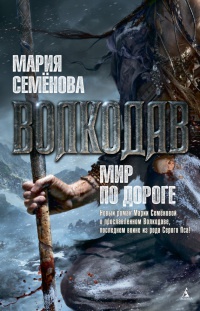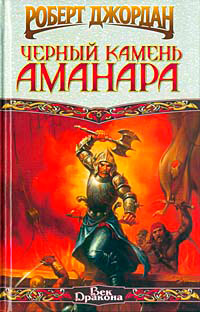Книга Стократ - Марина и Сергей Дяченко
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
– Не стоит этого делать, бродяга, – сказал Лесной Царь.
– А кто мне помешает?
Нора стояла, вцепившись в перила старой лестницы, и казалось, что пальцы ее прорастают сквозь полированное дерево.
– Пошли, – Стократ шагнул к лестнице. – Идем со мной, Альт.
Мальчишка шагнул вниз – и начал падать, как большая тряпичная кукла. Прежде, чем он коснулся пола, Стократ выхватил меч и снес голову Лесному Царю.
Обезглавленное тело повалилось без единого звука. Одновременно с ним упал на ступеньки мальчик и зашипел от боли сквозь сжатые зубы. Стократ протянул ему руку…
– Ты пришел за чужим, – сказал Альт.
Он смотрел на Стократа глазами Лесного Царя. Поднялся без чужой помощи и оказался очень высоким. Сбросил с плеча дорожный мешок, собранный Норой; женщина в ужасе пятилась, прижав ладони к щекам.
Стократ посмотрел на свой меч. Клинок был пустым и легким. В доме метались, кричали, роняли посуду – в обеденном зале было тихо, и ровно стояли огоньки свечей.
– Ты убил его? – спросила женщина. – Ты убил моего брата, а теперь и моего сына?!
– Для тебя они живы, – сказал Лесной Царь. – Пойдем со мной.
Он протянул ей руку в перчатке. Женщина, ступая, как сонная, спустилась ниже по ступенькам и оперлась на нее.
– Я отведу тебя туда, где на столе стоит игрушечная мельница, и брат несет тебе два куска пирога, – сказал Лесной Царь. – Твой сын вырос и стал мужчиной. Твои внуки играют на пороге. Одновременно… твоевременно. Бери, храбрая девочка.
Нора улыбнулась. Свет упал на ее лицо, и она пошла к двери, опираясь на руку Лесного Царя, чье обезглавленное тело валялось на полу, чья голова откатилась в угол, кто шел, повернувшись к Стократу спиной, презирая угрозу…
Но в дверях остановился и посмотрел через плечо.
– Ты пришел за чужим, понимаешь? – сказал Лесной Царь с лицом повзрослевшего Альта. – Эти люди принадлежат мне вместе с их прошлым и будущим. Я взял бы и тебя. Но твое прошлое жжется, как уголь, а будущее распадается, как пепел. Твое время – яд; уходи поскорее.
– И ты ушел?!
Стократ молчал.
– Я не верю, что ты просто так ушел, – старуха напряженно смотрела сквозь огонь, горячий воздух дрожал, и казалось, что старуха гримасничает.
– Я ничем не мог помочь Норе и ее семье. Но я сделал кое-что, ты права… Лесной Царь был слишком откровенен со мной. Он сказал, что мое время – яд.
– И ты…
– Я заплатил налог. Оставил зарубку на пластинке, которую мне дал тот парень, привратник, впуская на земли Леса. Я подарил Лесу немного своего времени; этой малости оказалось достаточно, чтобы деревья сошли с ума.
– Ты сам безумец, – сказала старуха недоверчиво. – У деревьев нет ума. Они не могут…
– Разумеется. Я говорю – «сошли с ума», потому что эти слова лучше объясняют, что случилось… Лесной Царь, и весь его Лес, и все люди, что платят налог своим временем, – по сути, один механизм, как мельница, например, только колесо этой воображаемой мельницы вертит не вода, а отчужденное время. Или не механизм, а единое тело, и время – кровь в его жилах… Толики яда достаточно, чтобы весь организм погиб.
– Ты уничтожил его царство?!
– Нет… Я не смог бы. И не решился. Я хотел только, чтобы люди начали разбегаться от него. Вырвавшись из-под этих деревьев, уехав далеко-далеко, они смогли бы… Но вышло по-другому. Разбегаться стали деревья.
– Вресени!
– Да. Разбредясь по обыкновенным лесам, они проросли в прошлое и в будущее. И стало так, что вресени в лесах водились всегда, и тысячи лет назад люди рассказывали друг другу истории о путниках, которые проснулись в будущем…
– Но только один проснулся в прошлом – ты! Проснулся в тот день, когда Мир упала в лес, рожденная звездами, и положила предел Обитаемому Миру… Это не было случайностью, Стократ. Ничто из сделанного тобой, и того, что с тобой случилось, не было случайностью! Ты орудие Создателя, Стократ, а может быть, ты орудие его врагов…
– Ты так думаешь? – он поднял уголки губ. – Тогда я расскажу тебе последнюю историю. Учти, она страшная.
Подкрышей
По ночам они молились своим смешным придуманным богам, чтобы он ушел. И он давно мог уйти, если бы не голод: в дороге нечем будет кормиться. Вся округа – это замки и засовы, волкодавы на длинных цепях или вовсе без привязи, топоры и вилы, ощетинившиеся в лицо бродяге. Конечно, покладистый работящий мальчик мог бы найти себе стол и дом, но он не был ни покладистым, ни работящим.
Он не боялся ничего, кроме открытого неба. Весь приют знал его шляпу, с широкими полями, загнутыми книзу. Он называл ее «моя крыша». И весь приют звал его, шепотом и за глаза, Подкрышей. Но всякий несчастный мальчик, рискнувший сказать это имя вслух, долго ходил потом с расквашенным носом.
Однажды пасмурным днем, когда небо казалось особенно низким и обшитым паклей, Подкрышей ушел в деревню днем и бродил по улицам до вечера. Подвыпивший работник возвращался из трактира. Случилось так, что пьяница пропил не все.
Подкрышей догнал его. Пьяница не захотел отдавать тощий кошелек. Подкрышей пырнул его ножом, длинным, как зимняя ночь, и таким же холодным.
Несколько монет – законная добыча. Труп, утопленный в мельничном пруду. В эту ночь он понял, что голода бояться нечего, и захотел уйти сразу же. Но смешно было делать подарок тем, кто молился о его уходе своим смешным придуманным богам.
Он вернулся в приют и поджег его. Уходил под утро, низко надвинув шляпу. Путь его освещали солнце на востоке и пылающий дом на западе. Няньки, сироты, малыши и взрослые – остались там, и его не заботило, кто из них выжил.
* * *
По деревням и поселкам ходила о нем слава. Драчливые подмастерья, младшие сыновья беднеющих отцов, сорвиголовы и проштрафившиеся работники бежали к нему в лес, нижайше просили принять в шайку. Он собирал их понемногу, так, чтобы рядом было постоянно двое-трое подельников, но надолго они не приживались. Кишкодер Подкрышей, как его прозвали крестьяне, вел нескучную и неробкую жизнь: останавливал обозы, идущие с ярмарки, угонял скот с лесных опушек, мог нагрянуть среди бела дня в предместье и ограбить трактир. Его товарищи познавали на шкуре все тяготы разбойничьей жизни: их кололи вилами в живот, били камнями, они умирали от ран или болтались в петле. Некоторым, особенно стойким, Подкрышей самолично всаживал нож под лопатку и снова оставался один. Он шел дальше, волоча за собой славу, будто старую рыбачью сеть. Его проклинали, на него устраивали облавы, его труп пять раз выставляли на всеобщее глумление – а он шел дальше, делал все то же и ничего не боялся, кроме открытого неба. Шляпа, пристегнутая ремешком к подбородку, никому не позволяла рассмотреть его лица – теперь он не снимал ее даже под крышей.