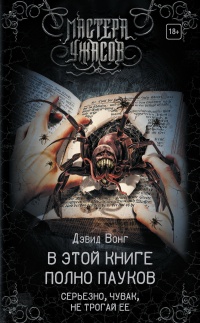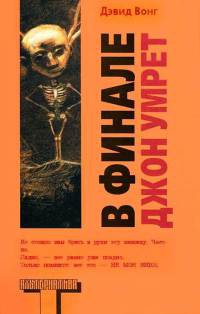Книга Мельмот - Сара Перри
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Мраморный столик холодный на ощупь. Вдруг чужая рука – белая, надежная, с коротко остриженными ногтями – неуверенно касается ее ладони.
– Вы поступили очень дурно, – говорит Адая, но голос ее звучит ласково. Хелен поднимает голову, видит очки с толстыми линзами и короткие светлые волосы и с удивлением замечает ту же застенчивую улыбку, которой Адая улыбалась ей в зеркальной часовне.
– Я знаю, – отвечает она, чувствуя, как ее наполняет легкость.
Альбина фыркает. Она уплетает «Захер». Ее наряд уже не белоснежный.
– Как по мне, он просто глупый мальчишка, – заявляет она. – Его же ни о чем не просили. Никто не говорил ему: возьми вину на себя, понеси чужое наказание. Ты просила? Нет. И зачем тогда все это? – Она размахивает вилкой с презрительным и в то же время торжествующим видом. – Бедная маленькая английская myš. Он подарил тебе жизнь, а ты что с ней сделала? Сама построила себе тюрьму. Идиотка!
– Я этого заслуживаю. Заслуживаю.
(Йозеф Хоффман серьезно кивает.)
– Знаете, – Адая кладет на руку Хелен свою прохладную ладонь, – страдать не всегда обязательно, даже если это заслуженное страдание.
Ее большой палец ласково поглаживает запястье Хелен.
Тея еще не сказала ни слова. Она хмурится. Хелен хорошо знает это ее выражение: Тея размышляет, задается вопросами, обдумывает факты. Ее глаза обводят зал – пианино, ловких официантов, плывущий за окном Национальный театр. Она расстегивает, потом снова застегивает, потом снова расстегивает бандаж на левом запястье, пробует сжать и разжать кулаки. В последнее время ее ослабевшие руки постоянно отекают. Пчела на пальце копошится в глазнице серебряного черепа. Наконец Тея произносит:
– Случай не такой уж и беспрецедентный. Помнишь Книгу Левит – там было о козле, на которого возлагали все грехи рода человеческого и уводили в пустыню умирать? Раз Арнел Суарес превратил себя в козла отпущения, правосудие свершилось. Более того, свершилось даже дважды, учитывая твое самонаказание и отречение от всего. – Она доверительно склоняется к Хелен: – Мы с Карелом все пытались понять, что же с тобой такое. В конце концов решили, что ты воспитывалась у иезуитов и по вторникам хлестала себя плеткой.
Просто нелепо, с какой беспечностью они отнеслись к ее рассказу, и Хелен протестует.
– Вы не воспринимаете меня всерьез, – говорит она. – Иначе вы бы встали и ушли.
Альбина пожимает плечами:
– Эта женщина. Роза. Ты сделала то, о чем она тебя просила. Я бы сделала то же самое и даже петь не стала бы.
И Хелен ей верит, на мгновение представив себе, как однажды утром просыпается и видит Альбину, приближающуюся к ней с подушкой в руках.
Тея задумчиво добавляет:
– Будь я его адвокатом, пожалуй, мне было бы что сказать на суде в его защиту. Но я не его адвокат. Срок давности по твоему преступлению истек, малышка Хелен.
Адая пересыпает жемчуг из одной ладони в другую. Она говорит мягко, извиняющимся тоном:
– Возможно, это не так и ее приговор пожизненный.
– И это правда! – Хелен благодарна Адае за то, что хотя бы она не обманывается, не пытается представить суду смягчающие обстоятельства, не протягивает ей руку милосердия.
– Адая, положи это куда-нибудь и подай мне сумку, – велит Тея.
Из-под стола появляется сумка, на которой изображена идущая в бой армия времен Ренессанса. Тея возится с застежками, отмахивается от Адаи, предложившей помощь, и наконец извлекает сложенную стопку бумаг. Она кладет ее на стол, расправляет замявшиеся края и смахивает крошку хлеба с титульного листа («Каирские дневники Анны Марни»). Все это проделывается так медленно и благоговейно, как если бы это была рукопись, найденная среди пепла на острове Линдисфарн[21], а не пятнадцать напечатанных на принтере Карела листов формата А4. Рядом с пианино начинаются танцы, паренек в бархатном шарфе приобнимает женщину лет пятидесяти.
– Это тебе, – говорит Тея. – Ты потом пожалеешь, что прочитала это, но зато будешь казаться себе просто святой. Возьми. Ну давай, убери эту стопку себе в сумку, она тяжелая, я не хочу ее таскать.
– Наверняка опять Мельмотка, – вставляет Альбина. – Девочки со своими сказочками. Ты уверена, что сейчас ее здесь нет, м? Может, она – это я! Я за тобой слежу уже много лет, ты об этом не думала?
– Я бы не исключала такую возможность, – весело отзывается Хелен, складывая бумаги и убирая их в карман пальто, но при этом бросает быстрый взгляд на ярко освещенное изнутри окно, на открытую дверь. На тарелке перед ней кусочек торта – плотный, влажный, почти черный, пропитанный ликером и абрикосовым конфитюром. Пахнет миндалем, на парчовой салфетке лежит серебряная вилка, из клубничин искусно вырезаны цветы. Хелен уже не кажется невозможным съесть кусочек, позволить себе ощутить вкус сладкого. Она поднимает глаза в поисках Франца Байера с язвочками на губах, Алисы Бенет, дующей на свой ожог, Розы, укутанной в вылинявшую простыню и ерзающей на постели. Никого нет. Альбина смотрит на нее поверх поднятого бокала с вином: давай, давай, во всем этом уже нет необходимости. Хелен берет вилку и вдавливает ее ребро в глянцевый шоколад, в абрикос, в ореховую крошку, пахнущую, как цианид, горьким миндалем.
– Нам, наверное, уже скоро пора, – замечает Тея.
– Я хочу есть, – отвечает Хелен. Удивительно. Она отправляет вилку в рот. Торт оказывается восхитительно сладким и нежным. Она чувствует вкус абрикосовых садов в августе, вкус миндаля, с треском расколотого на серебряной тарелке. Губами ощущает прохладу и гладкость вилки. Хелен ждет, что ее вот-вот настигнет заслуженное отвращение к самой себе, но вместо него чувствует только удовольствие и совершенно детскую радость от сахара.
– Доедай, доедай, – говорит Альбина Горакова, надевает бархатное пальто и затягивает пояс на корсажной ленте.
– Доедай, – повторяет Тея, улыбается и кладет руку на плечо Хелен.
– Только смотрите, чтобы не затошнило, – предостерегает Адая, краснея и одергивая белоснежные манжеты полосатой рубашки. – Такое может случиться, если вы не привыкли к сладкому.
Танцоры рядом с пианино вальсируют под «Голубой Дунай». Национальный театр продолжает плыть за окном, Хелен Франклин продолжает есть.
Глупая Русалка, экзальтированная водная нимфа, поправляет парик. Она и так не блещет умом, а страсть и вовсе превращает ее в дурочку: через час она обменяет свой голос на любовь тучного тенора и попадется на удочку ведьмы. Но сначала она споет арию восходящей луне. Эта самая луна – деревянный диск, с которого отслаивается поблекшая краска, – дожидается ее за кулисами, где-то возле поворотного механизма занавеса. А вот и Баба-яга, ведьма-обманщица, которая будет снабжать главную героиню зельями и ножами; она ест бутерброд с сыром и огурцом и переживает из-за износившейся обуви. Тучный тенор стоит перед зеркалом и задумчиво созерцает содержимое своего стакана. Он уже не так хорош (думает тенор), как был когда-то, – а впрочем, в любом случае в ближайшем будущем все станет еще хуже.