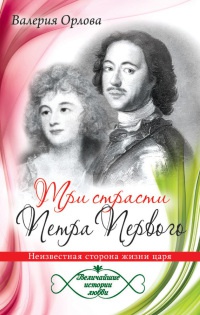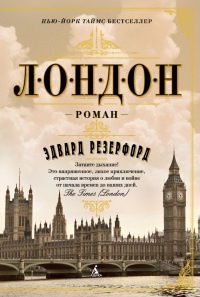Книга Из жизни двух городов. Париж и Лондон - Джонатан Конлин
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Во французской полиции никогда не было должности «детектива». Это слово пришло во французский язык из английского только в 1870-е годы. Однако у нас есть веские основания считать, что жанр детективного рассказа зародился в Париже в восемнадцатом веке под пером Никола Ретифа де ла Бретонна, замечательно плодовитого журналиста, чьи произведения, подобно романам Габорио, сейчас почти полностью забыты. В 1788 году, на пороге Революции, Ретиф издал «Парижские ночи, или Ночной зритель» — серию коротких скетчей с описанием приключений рассказчика во время 363 бессонных ночей. В каждой главе автор дает детальный отчет о своих блужданиях по городу, достаточно подробный, чтобы можно было по карте проследить маршрут этого Зрителя [рис. 27]. Ночь за ночью он бродит по Парижу без видимой цели, записывая свои впечатления, которые постепенно, порой лишь частично выливаются в истории насилия, преступлений, нелегкой доли бездомных детей и любовных интриг. В дальнейшем Ретиф добавит к первоначальным четырнадцати еще два тома, под общим заглавием «Бессонная неделя: семь ночей в Париже».
Рис. 34. Титульный лист книги «Парижские ночи» Ретифа де ла Бретонна. Анонимный художник, 1789 г.
Из названия книги следует, что Ретиф интересовался английской литературой и, вероятно, читал и журнал Аддисона «Зритель» и произведения английских писателей, невероятно модных во Франции перед Революцией. «Парижские ночи», по сути, могли бы появиться и в Лондоне, ведь идея организации текста по порядку и количеству ночей созвучна поэме Эдуарда Юнга[85] «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии», изданной во французском переводе Пьера Летурнера в 1769 году. Но «Парижские ночи» вышли в прозе, и хотя речь в этом произведении временами действительно идет о смерти человека, интересы автора простираются гораздо шире.
Как становится ясно из вступления, Ночной наблюдатель видит себя в роли «ангела-хранителя», одиноко бродящего под покровом мрака по огромному спящему городу, невидимого горожанам блюстителя общественных интересов. Во вступлении также объясняется, что рассказчик служит полицейским детективом, в смысле французской «полиции» восемнадцатого века.
Автор произносит напыщенные речи против драконовских законов о налогообложении, засилья экипажей, недостаточно развитой сети общественных туалетов и вредного влияния парадов на девичью психику. Он также дивится разнообразию и размаху городской жизни и рассуждает о влиянии города на сельских жителей.
Наблюдение, сделанное в одном скетче, может дополнять или разъяснять другие, сделанные в последующие «ночи», что объединяет на первый взгляд разрозненные «скетчи» воедино и создает атмосферу города-загадки, скрывающего удивительные, подчас жутковатые тайны. Хотя Зритель ясно дает понять, что он лишь сторонний персонаж, можно предположить, что сам Ретиф одно время служил полицейским шпионом (mouchard). В любом случае, подобно Мерсье, а позднее и Холмсу, он не просто равнодушно наблюдает за происходящим, а активно вмешивается в ход событий. Всем детективам присуще чувство опосредованного, или косвенного страдания. Ведь они должны расследовать преступления, которые, по большому счету, касаются всех нас: мы признаем, что преступный мир — оборотная сторона той системы, что обслуживает наши нужды. Все мы — сограждане (concitoyens), и потому обязаны бороться со злом, особенно если оно угрожает благосостоянию наших близких или соседей. Но когда приходит время действовать, мы посылаем вместо себя детективов, поручая им разобраться со злом от нашего имени. Как маркиз де Икс — патрон Вибера, мы не желаем сами соприкасаться с теми гранями жизни, которые могут нанести нам моральный или физический вред. И все же нам безумно хочется узнать разгадку преступления до того, как ее узнают другие.
В книге Ретифа косвенное страдание его персонажа пронизано духом просвещенного идеализма, характерного для первых трех лет после Революции. Он взывает к читателю как к согражданину — concitoyen, и таким образом показывает, насколько лучше была бы городская жизнь, если бы законопослушные граждане сами организовали ночные патрули, а не оставляли ночью город на произвол воров, проституток и коррумпированных жандармов. Хоть мы и законопослушные буржуа, не стоит забывать, что мы сидим на самой вершине вулкана, в кратере которого бушует опасное пламя, разжигаемое низшими слоями общества. Ночной зритель знает о жизни бедноты больше других. Если хозяева видят лишь одну грань, «публичное лицо» своих рабочих, то он «живет среди них, и слышит, что они говорят промеж собой». Он «знает, как важно вовремя прекратить любой всплеск эмоций, даже по самому невинному или благородному поводу, и ни в коем случае не допускать, чтобы народ пошел на активные действия». «Парижские ночи» вышли в начале ноября 1788 года. Менее чем через год пала Бастилия.
Как заметил Мерсье в своих «Параллелях», парижанин никогда не получил бы удовольствия от политических дискуссий, столь жарких в лондонских пабах, по той простой причине, что невольно искал бы взглядом шпиона, притулившегося в уголке и записывающего все, что говорится вокруг. Фигура полицейского шпиона зловещей тенью висела над Парижем в течение трех десятилетий перед революцией.
Однако на деле силы, собранные под началом генерального лейтенанта полиции Сартина и его преемника Ленуара, (служивших в 1759–1774 и 1774–1790 годах соответственно), хотя и более организованные и милитаризованные, чем разрозненные лондонские патрули, не были многочисленны. Шпионы типа Жана-Батиста Мёнье, конечно, существовали, однако никогда не обладали той властью, в которой их подозревал простой народ.
Как позже в Германской Демократической Республике, при «старом режиме» во Франции невозможно было угадать, является или нет человек, начавший разговор на политическую тему в таверне шпионом и не читают ли твои письма в ближайшем полицейском участке. Однако попытки парижской полиции заставить лондонских «коллег» выдать им одного провинившегося французского дипломата в 1768 году привели лишь к тому, что репутация «французских жандармов» в Англии была окончательно испорчена. Кстати, Ленуар сам признался, что вместо того, чтобы пытаться обелить себя и свой департамент в глазах общественности, он лишь раздувал зловещие слухи. Несуществующие шпионы-фантомы на деле работали даже лучше живых: не требовали зарплаты и не брали взяток.
Такая политика проявила себя как весьма действенная, но лишь на короткое время. На деле господствовавшие в обществе страхи и подозрительность, ужас перед Бастилией и Королевскими указами о ссылке или заключении под стражу подорвали старый режим изнутри. В результате даже вполне благородные попытки реформ были неверно истолкованы народом, подозрительно относившимся ко всем действиям властей. Например, попытка облегчить торговлю зерном лишь вызвала слухи о «голодном пакте», по которому король якобы решил заморить страну голодом. В такой атмосфере неудивительно, что Зритель Ретифа не осмеливается признаться читателям, что и сам является членом тайной полиции Ленуара. Лишь после революции жители города смогли искренне поприветствовать сотрудника парижской полиции, да и то при весьма неожиданных обстоятельствах.