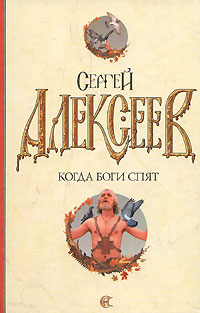Книга Долгая нота. (От Острова и к Острову) - Даниэль Орлов
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
Татьяна улыбалась своим несерьёзным мыслям, радовалась себе, радовалась этому дню, машине с широкими креслами, Борису, светофорам, обгоняемым трамваям, пешеходам на перекрёстках в светлых плащах, цветных болониях, в кепках и шляпах. Всё это казалось уместным, нужным, хорошим. В детстве всегда спрашиваешь: хорошо это или плохо? Всегда ждёшь чьей-то оценки, чтобы принять её благодарно. Как Васька в клубе, когда показывают кино: «Мам, а этот дяденька хороший? Он за наших?» И улыбаешься, отвечая: «За наших, сынок. Этот дяденька за наших». А сейчас отвечаешь себе сама, что этот дом хороший, этот трамвай за наших, эта улица — блестящая, крутая, дребезжащая, — она тоже хорошая. Очень хорошая. И этот красивый, сильный мужчина тоже за наших. Он свой. Он как раз самый главный «наш».
Борис оставил машину на проспекте и повёл Татьяну к знакомой по картинкам и фильмам высотке университета долгой яблоневой аллеей. Яблони уже убедительно показывали зиме блестящие фиги почек. На скамейках сидели студенты. Некоторые здоровались с Борисом, он улыбался, приветственно махал рукой. И она рядом с ним одновременно перешагивала лужи, так же, как он, кивала кому-то, улыбалась, словно была частью этой жизни.
В аудиторию Татьяна подниматься всё же не рискнула. Пока Борис читал лекцию, она гуляла по Ленинским горам. Смотрела на город, спускалась вниз длинной бетонной лестницей с бесчисленными фантиками от конфет по краям. Подходила к набережной, удивлялась пресной тяжести Москва-реки. Из одинокой тучи брызнуло дождём, проткнув воду миллионами дырочек, в ряби и бурлении отразив апрельское небо. Татьяна смахнула перчаткой ветки со скамьи, села, раскрыла зонтик и сидела почти час, смотря на воду и слушая, как наверху гудит и тревожит свистками Воробьёвское шоссе.
В детстве она любила сидеть в дождь на берегу Онеги под сколоченным из сучковатого горбыля навесом и смотреть, как тяжёлые капли ныряют в гладкую сталь озера. Замечала какую-нибудь тростинку или палку, воткнутую в дно рыбаками, и мысленно рисовала вокруг блюдце. А потом считала капли, попадающие в это блюдце. Если дождь только начинался и капли были редкие, она успевала между каплями проговорить алфавит от буквы «А» до буквы «У» или даже до твёрдого знака. Никогда дальше. Обязательно падала капля, и она начинала алфавит заново. Потом дождь усиливался и получалось только до «И», потом до «Е». А потом она уже не могла угнаться своими буквами за небесной машинисткой, выбивающей целые слова и предложения. Тогда она представляла себе, что это её родители пишут письмо дочери каплями дождя, и старалась прочитать в переплетении расходящихся кругов слова. В какой-то миг начинало казаться, что она действительно видит, понимает смысл написанного дождём. И всякий раз она плакала и шептала: «У меня всё хорошо. Не волнуйтесь за меня. У меня всё хорошо. Я хорошо учусь, у меня есть друзья. У меня хорошее здоровье. Я почти не болею. Этой зимой у меня даже ни разу не заболело горло». И ещё что-то такое успокаивающее, обещающее, детское. И дождь стихал. Капли становились всё реже, буквы и слова в водяных узорах пропадали. Татьяна понимала, что услышана, что телеграмма дошла до небесных адресатов. Тогда она поднималась с корточек, выходила из-под навеса и кланялась. Маленькая девочка в ушитом выцветшем бушлате на берегу огромного как море озера кланялась воде и благодарила дождь и Онегу.
Потом она поднималась раскисшей колеёй до ремонтных мастерских, пробиралась узкой тропинкой между двух заборов и попадала на широкую укатанную дорогу, по которой то и дело проходили грузовики. Грузовики оставляли после себя вкусный бензиновый запах, патокой вплетавшийся в запахи влажной листвы. Татьяна переходила дорогу и по незаметной с обочины тропе шла через подлесок до приютского двора. Тщательно отирала ботинки о железную скобу перед входом, топталась по заскорузлой влажной дерюге и только после этого входила в сырое, уютное тепло старого помещичьего дома. Она очень хорошо помнила крашенные коричневой краской доски прихожей. Сколь ни крась, а у самой двери они всегда вытерты до белизны. Помнила длинный тёмный коридор, в который выходили двери четырёх спален. Первая слева по ходу спальня — для самых маленьких. Мальчики и девочки жили в ней вместе. Здесь было больше всего игрушек: и тех, что привозили шефы, и тех, что делали ребята постарше. Следующая спальня предназначалась для ребят, которые уже ходили на занятия в школу: с первого по четвёртый класс. Тут тоже жили вместе. А справа было две раздельные спальни для мальчиков и девочек постарше. В приюте оставались до шестнадцати лет. После воспитанники покидали его и уезжали поступать в ремесленные училища или в техникумы. Никто не возвращался. Никогда. Даже просто проведать своих младших друзей или воспитателей. Никто никогда не возвращался.
Так и Татьяна, когда уезжала поступать в свой экономический, обещала подружкам, что обязательно навестит их на первых же каникулах. Писала им письма в детский дом чуть ли не каждую неделю, пока не началась сессия. На зимние каникулы осталась в Архангельске. На летние устроилась подрабатывать учетчицей в местной конторе. Писала всё реже и реже, пока и вовсе не перестала. Последнюю поздравительную новогоднюю открытку отправила зимой, за несколько месяцев до окончания техникума. Сколько раз потом она собиралась приехать в те места или в Кандалакшу, где пробыла до семи лет. Собиралась, да так и не собралась: работа, остров, Лёнчик, Васька. Хорошо бы съездить туда с Борисом, побродить с ним по сосновому лесу, спуститься к берегу Онеги, обойти заросший лопухами и снытью помещичий двор, войти в тот дом, в котором она прожила почти девять лет и в котором её никогда никто не обижал. Возможно, что её даже любили, как можно любить постороннего, самостоятельного, строгого ребёнка.
В каждом классе поселковой школы детдомовских было чуть меньше половины. Учителя радовались. Детдомовские отличались особой внимательностью, учились старательно, хотя каждый в меру своих способностей. Уже к двенадцати годам все заранее знали, кем хотят стать. В отличие от их сверстников не придумывали себе специальности лётчиков и пожарных, а в сочинениях писали «хочу быть электротехником» или «мастером на большом заводе». Сиротство приучило их планировать свою жизнь, думать о ней. Беспризорников в приют не привозили. Дети либо попадали сюда из Домов малютки, либо их забирали социальные работники из собственных квартир. Родители большинства погибли на войне или сгинули куда-то, в те места, о которых не говорили.
Татьяне хорошо давалась математика. Она чувствовала формулы, запоминала, находила закономерности. Жизнь цифр казалась ей понятной и спокойной. Цифры приняли её за свою, обеспечив будущим, пообещав и не солгав. Цифры всерьёз лгать не способны, даже переменные, даже комплексные переменные. За их лукавством всегда только правда, пусть и тщательно охраняемая и требующая серьёзного решения. Потому и в экономическом техникуме по профильным предметам у неё получалось всё легко и просто. Она сделалась лучшей ученицей на курсе и могла сама выбирать распределение. Когда она выбрала артель на Острове, все удивились. Среди предложений в том числе значились мурманское пароходство и архангельские верфи, о которых было принято мечтать. Но Татьяна выбрала Остров. Выбрала, повинуясь исключительно эмоциям, а вовсе не присущему ей здравому смыслу. За полгода до того попался ей в руки журнал «Огонёк» с фотографиями Соловецкого монастыря и большой статьёй про музей. Огромная, на целый журнальный разворот, панорама кремля. Бухта с карбасами. Низкое, с отретушированными кромками облаков небо, касающееся куполов собора. Словно позвал её кто-то. Не приказал, не крикнул, а просто позвал, как зовут, зная, что услышится даже вздох. На распределении она вежливо отказалась от лучших мест и попросила направить её в Ребалду. Члены комиссии переглянулись недоуменно, но решили не настаивать. Только преподавательница литературы, пожилая немка Ирма Генриховна, грустно и значительно покачала головой, опустив глаза. Подружки же со всей непосредственностью юности открыто покрутили пальцем у виска, когда Татьяна вышла из аудитории и радостно сообщила, что уезжает на Соловки. Одна лишь Лидка запрыгала и захлопала в ладоши, схватила Татьяну за руку и потянула на лестницу, где горячим шепотом призналась, что вот-вот выйдет замуж и уедет к мужу («Да-да, представляешь, какое совпадение?») на Соловки. Муж — милиционер, армейский друг её брата. И теперь она надеется, что станут они настоящими подругами, а не просто однокурсницами.